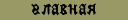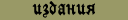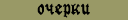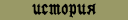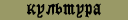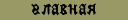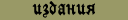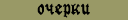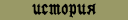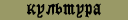ГРИГОРИЙ ГРИГОРОВ, "ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ И
ПРОИЗВОЛ. ВОСПОМИНАНИЯ".
(Том 2: 1928-1972 годы.) Отрывок из книги.
ЧАСТЬ Х11. ГЛАВА 2
Первые дни войны в Горьковской области. Меня мобилизуют. Студент
Князев. Нас везут на север. В санчасти 20-го военно-полевого строительства
в Сегозерске. Первая встреча с финскими солдатами.
«Согласно истинной военной науке никогда не следует доводить врага
до отчаяния, ибо отчаяние увеличивает его ослабленное и истощенное
мужество». (Франсуа Рабле. «Гаргантюа и Пантагрюэль»).
Приведенный парадокс Рабле глубоко раскрывает истинные и часто скрытые
причины поражений и побед в военных баталиях. Не храбрость, не патриотизм,
не военное умение иногда решают судьбу стран и правительств, а отчаяние.
Если иногда удается взять в плен целые армии, то это связано с отчаянием,
с психологическим состоянием солдат и офицеров. Мне приходилось быть
свидетелем, когда молодые люди, доведенные жуткими условиями жизни
до отчаяния, совершали абсолютно бессмысленные, но необыкновенно храбрые
поступки, дабы избавиться от страданий.
В конце 1940 года меня вызвали в Борский военкомат, где допросили
о моем военном прошлом, участии в Гражданской войне, подробно расспрашивали
о моих военных должностях и звании. Затем пошел разговор о том, за
что меня репрессировали. Через неделю меня опять вызвали и сообщили,
что на военном учете я буду состоять как рядовой. Меня это не волновало.
После Гражданской войны Политуправление республики пыталось направить
меня в Военную академию, но я категорически отказывался, говорил,
что за 3 года Гражданской войны я невзлюбил военное дело, мне хотелось
только учиться.
До ареста в Ленинграде в конце 1934 года я находился на учете старшего
политсостава Красной армии, в первый день войны был обязан явиться
в Артиллерийскую школу на Литейном проспекте. После начала Отечественной
войны я предполагал, что бывших политических заключенных опять отправят
в концлагеря. Но судьба сделала очередной неожиданный поворот. Я поехал
в Горький, мне надо было побывать в Педагогическом институте. По улицам
шагали мобилизованные, за ними следовали женщины, старики и дети.
Было много слез и громкого плача, но при этом оркестр играл бравурные
марши. Вот оркестр перестал играть и правофланговый хрипловатым голосом
запел:
Слушай, рабочий,
Война началася,
Бросай свое дело,
В поход собирайся…
Двадцать с лишним лет прошло с тех пор, как я пел эту песню, идя в
поход против Деникина, Врангеля, атамана Григорьева. Но тогда я не
задумывался над смыслом слов этой песни. Почему «Как один умрем»?
Это явная бессмыслица. Революция совершается во имя жизни. Проходила
колонна молодых новобранцев, я бы дал им лет по 17-18. Они задорно
пели:
Гремела атка и пули звенели,
И ровно строчил пулемет…
И девушка наша проходит в шинели,
Горячей Каховкой идет.
Я подумал, что будет с этими бодро шагающими юношами, совершенно не
представляющими ужасов войны. Зашел в Пединститут. Исчезли группы
оживленных студентов, в коридорах тишина. Многие студенты и преподаватели
уже получили повестки из военкомата. Один преподаватель подошел ко
мне и тихо сказал: «Вот тебе, чужой земли не хотим, своей ни пяди
не отдадим… Грузинскому пророку лучше бы лезгинку танцевать, а не
заниматься прогнозами.»
Преподавателя истрии нашей школы, мужа директрисы, тоже мобилизовали,
произвели в комиссары какого-то батальона, хотя он никогда не был
в армии и не держал в руках винтовки. На собраниях в школе он говорил
только о последних решениях пленумом ЦК партии, а на уроках истории
много говорил о текущих событиях в стране. 10 июля его отправили на
фронт, а 2 августа его семья получила извещение о его героической
смерти. Его жена, тоже преподаватель истории, за несколько дней страшно
изменилась, ее нельзя было узнать, пожелтела, глаза ввалились, лицо
покрылось морщинами. Все ее очень жалели. 4 сентября 1941 года мы
с женой были в гостях у Юзовых. Говорили о делах в школе. Из Горького
приехали наши дочери, рассказали, что студентам старших курсов предлагают
добровольно идти в Красную армию, никто не решается отказаться. Вечером
начался проливной дождь, струи били в окна, гудел ветер. Мы с женой
засиделись до 12 часов ночи, когда в дверь сильно постучали. Жена
побледнела и начала кусать ногти пальцев, как она это делала, когда
сильно волновалась. Мы решили, что за мной пришли работники НКВД.
Но это мне принесли повестку из военкомата. Я должен был явиться в
Борский военкомат 5 сентября к 7 часам утра. С души упал тяжелый камень
– не тюрьма, а фронт. Эту ночь мы с женой не спали, собрали в мешок
кое-какие вещички. В 6 часов утра отправились в город Бор, нас провожали
Юзовы и несколько старшеклассников. В огромном дворе возле военкомата
собралось много народа, женщины громко ревели. Прибежала и Мария Адамовна
Шлыкова с дочерью. Из здания военкомата вышел очень высокий человек
и зачитал список призывников, нам предложили сдать паспорта. Построили
по 5 человек,. скомандовали «шагом марш», мы двинулись к берегу Волги,
где стоял буксир с большой баржой, в которую нас погрузили. Моя жена
двигалась вместе со мной. Прибыли в Горьковский военкомат. Я получил
разрешение навестить в больнице сына. За неделю до моей мобилизации
он заболел, врач на Стеклозаводе не мог поставить диагноз и направил
его в Горький, где его положили в областную больницу с диагнозом –
узловая аритема. Когда мы с женой увидели сына в больнице, расстроились,
он был очень бледен и слаб. Снова, как в конце 1934 года после убийства
С.М. Кирова, я оставлял свою семью и не знал, когда вернусь и вообще,
вернусь ли. Надо было возвращаться в военкомат. Огромное помещение
было забито мобилизованными и их родственниками. Мы с женой протиснулись
в угол, сели на пол, всю ночь проговорили. Я очень огорчался, что
не успел проститься с дочерьми. Рано утром опять зачитали список мобилизованных,
построили, и мы двинулись на Горьковский вокзал. Там уже стоял состав
с товарными вагонами для нас. Я попрощался с женой, это было расставание
с семьей на 14 лет. В вагонах, куда нас поместили, прежде возили скот,
мусор не убрали, только соорудили двухэтажные нары. Поезд тронулся,
раздался жуткий рев женщин и детей. Жена махала мне платочком, а из
ее глаз лились слезы. Кто-то забросил в наш вагон мешок с черными
сухарями и пачки с горохом. Мне достались верхние нары, рядом со мной
разместился молодой человек, студент 3-го курса Горьковского Педагогического
института Геннадий Князев. Недалеко лежал артист Горьковского драматического
театра, а вдоль окна – преподаватель Горьковского Пединститута. Мерно
покачиваясь под стук колес, я пытался оценить обстановку. Я был уверен,
что в продолжительной и тяжелейшей войне с Германией Советский Союз
одержит победу. Жертвы будут огромные: для тирана, сидевшего в Кремле,
жизнь людей не имела никакой ценности. Немецкий фашизм будет сокрушен,
а вот для избавления от сталинистов-фашистов сил не будет. Студент
Князев оказался разговорчивым человеком. Он рассказал, что на третьем
курсе мобилизовали его одного, потому что у него отец был репрессирован.
Вскоре мы узнали, что среди мобилизованных таких много, у кого отец
или брат находились в заключении за «политику». Утром 7-го сентября
наш эшелон прибыл в Вологду. По 100 человек водили на вокзал, где
нас кормили макаронами. Вокзал был забит красноармейцами, были и раненые.
Люди вповалку лежали на грязном полу. В общем, повторялась ситуация
времен Гражданской войны. С тех пор прошло 20 с лишним лет, и вот
та же неразбериха. Та же неповоротливость российского колосса. Эшелон
двинулся дальше на север. Пролетали немецкие самолеты и довольно хаотично
сбрасывали бомбы. Каждый раз, как раздавался сильный взрыв, с нижних
нар слезал огромный мужик с черной бородой, он становился на колени
и широко крестился. Мы познакомились с ним, это был семеновский ложкарь,
входивший в какую-то религиозную секту. Он сказал, что не собирается
брать в руки оружие, если Богу угодно, он готов умереть. Дома у него
остались жена и четверо детей. В 1937 году арестовали его старшего
брата за открытую пропаганду учения секты. С тех пор он ничего не
знает о судьбе брата, а обращаться, как он выразился, к «антихристам»
не будет. Секта, к которой принадлежал этот рекрут, отрицала официальное
церковное учение, не признавала ни церковные обряды, ни священников.
Единственной признаваемой священной книгой для них является Евангелие.
Наш эшелон остановился в открытом поле недалеко от города Сегежи.
Нас пригнали сюда, чтобы эвакуировать Сегежский бумкомбинат, но оказалось,что
комбинат уже эвакуирован. Нам делать было нечего, мы ходили по пустому
городу, население эвакуировалось вместе с комбинатом. Видели много
воронок от бомб. По городу бродили старики и старушки, они плакали
и умоляли нас взять их в наши вагоны. Уехавшие дети бросили их, не
оставив средств к существованию. Так некогда поступали эскимосы, когда
они перебирались на новые становища, немощных родителей оставляли
на морозе, и они постепенно коченели. Вот оно, «прогрессивное» человечество
и «гуманизм» нашей эпохи. Я разговорился с одним глубоким стариком,
руки у него тряслись, на лице тик. Он сказал, что его сын был главным
инженером бумкомбината, не захотел взять отца с собой при эвакуации,
сказал, что будет трудно. Мы хотели несколько стариков взять в наш
вагон, но комиссар эшелона категорически возразил, назвал нас «гнилыми
либералами».
По другую сторону от железнодорожного полотна находилась большая карело-русская
деревня, в которой тоже остались старики и старухи, отказавшиеся покинуть
свои насиженные места. Они говорили: «Хотим умереть здесь, где умирали
наши деды и прадеды.» На улицах деревни бродили коровы, куры и утки,
курицу можно было купить за гроши. Мы купили несколько кур, тут же
ощипали их и на костре зажарили. Несколько дней эшелон стоял, мы никому
не были нужны. Комиссар эшелона, горьковский железнодорожник, пытался
разыскать нашего хозяина, Горький отказался возвратить нас назад.
В конце концов мы обрели хозяина, им стало 20-е полевое строительство
Карело-финского фронта. Оно находилось на берегу Сегозера. Нас выгрузили
из вагонов и погнали к месту размещения 20-го полевого строительства.
По дороге я восхищался северными красотами. Подошли к Сегозеру, оно
почти квадратное, а кругом могучий хвойный лес и карельская береза.
Попадались куропатки, курлыкали глухари. Сегозеро находится на северо-западе
от Онежского озера и к западу от Выгозера. Эта система озер и послужила
основой строительства Беломорско-Балтийского канала. На берегу Сегозера
много валунов, это следы ледника. Начальство распорядилось о ночевке
под открытым небом. Все были одеты по-летнему, на мне был легкий серый
макинтош. С озера дул холодный ветер, и я почувствовал, что сильно
зябну. Князев тоже продрог в своем плаще, его лицо посинело. Каждый
устраивался на ночлег, как мог. Недалеко от озера обнаружили штабеля
досок, из которых мы сооружали лежаки. Мы легли вместе с Князевым,
прижались друг к другу, чтобы согреться. Некоторые устроились в рыбачьих
лодках. От усталости все быстро заснули. Глубокой ночью нас разбудили,
приказали грузиться на рыбачьи лодки. Всех по-очереди перевезли через
Сегозеро и привели в большую рыбацкую деревню. Здесь тоже остались
только старики и старухи. В нескольких избах из труб поднимался дымок
и за маленькими окошками мерцал огонек. Несмотря на то, что большинство
изб были свободны, начальство решило разместить нас в большущем сарае,
где по полу были разбросаны мокрые рыбацкие сети. Усталость была настолько
сильна, что все бросились укладываться на эту мокрую, но мягкую подстилку.
Вскоре начался повальный кашель, тогда начальство предложило переходить
в пустые избы. Геннадий, я и два артиста Горьковского драматического
театра направились в одну из изб, где дымилась труба. В этой избушке
нас встретила добродушная, маленькая, совсем седенькая старушка. Она
приняла нас очень приветливо, тут же поставила в русскую печь огромный
чугунный горшок с картошкой. Пока картошка варилась, старушка расспрашивала
нас о войне, мы не могли сказать ничего утешительного. Когда мы, страшно
продрогшие, сняли свою мокрую верхнюю одежду, уселись в теплой избе
за стол и начали есть горячую картошку, нам показалось, что мы неожиданно
попали в райское местечко. А потом на столе появился большой самовар
и наступило полное блаженство. Днем через эту деревню прошел партизанский
отряд, в нем насчитывалось около 200 человек. К вечеру отряд вернулся,
и бойцов разместили по тем же избам, где находились наши ополченцы,
теперь, можно сказать, тоже бойцы, но строительного подразделения.
В нашей избе разместился командир партизанского отряда, коренастый
парень, с залихватским чубом и в казачьей папахе. Вместе с ним пришел
молодой карел, у которого на груди красовался орден Красной звезды.
Это был местный охотник, он знал все тропы Карелии, он был проводником
партизанского отряда, кторый направлялся в тыл финских частей. Молодые
партизаны выглядели очень усталыми, все одеты легко, совсем не по
погоде, на ногах у многих вместо сапог ботинки с обмотками. Через
несколько дней мы узнали, что этот партизанский отряд почти весь уничтожен
финнами. Кто же несет ответственность за гибель этих людей, посланных
на верную смерть? Это маленький трагический эпизод грандиозной бойни,
в которой погибли миллионы. Из деревни нас погнали в Масельскую. Мы
двигались по трудной дороге, много щебня, больших и малых валунов.
Это следы ледников. Основательно измотавшись, мы добрались до районного
центра Масельская. Этот городок расположен к югу от Сегежи и к юго-востоку
от Сегозера. К этому времени части финской армии уже захватили город
Сортавалу на севере Ладожского озера и город Суоярви на северо-востоке
и двигались в направлении Масельской. Этим самым финны обходили Петрозаводск
с севера. Вероятно, поэтому 20-е полевое строительство, используя
наш отряд горьковских ополченцев, решило укрепить этот важный в стратегическом
отношении пункт. Это была очередная глупость наших «стратегов»: разношерстная
масса горьковчан, совершенно необученная, не представляла собой боевой
единицы. Все это свидетельствовало о полной растерянности не только
20-го полевого строительства, но и всего Карело-финского фронта осенью
1941 года. Нас поставили на копку траншей и окопов, лопат не хватало,
рыли по-очереди. Когда строительные работы были закончены, откуда-то
притащили трехдюймовую пушку, а нам дали винтовки. Меня назначили
командиром отделения. К нашим траншеям подвезли полевую кухню, кормили
горячими щами с мясом. Секрет такой щедрой кормежки был прост. На
станции Масельская находился бесхозный склад продуктов, оставленный
панически бежавшими хозяйственниками. На складе хранилось много муки,
макарон, сливочного масла. Через Масельскую проходили части Красной
армии, в основном необученная молодежь. Бойцы были одеты плохо: старые
шинели, рваные ботинки, на голове буденновки. Многие натерли ноги
и еле двигались. Вот такие части были брошены против финской армии.
Пришла северная осень. Небо покрыто серо-свинцовыми тучами, непрерывно
льет мелкий дождь. В траншеях и окопах мы стояли по-колено в воде.
Обогревались только вечером возле железной печурки. Нас разместили
в избах возле станции Масельская, стены были покрыты клопами, а по
полу бегали тараканы. Ночь проходила в борьбе с этими насекомыми.
Появились и вши, бани рядом не было, белье не меняли. Начались болезни:
грипп, ангина, воспаление легких. Но газетами нас снабжали регулярно.
В них мы читали о гениальном руководстве военными действиями нашего
любимого вождя. Я заболел воспалением легких, меня с попутной машиной
отправили в Сегозерск, где находилась санчасть 20-го полевого строительства.
В этой санчасти было только две койки. С врачем не повезло, это была
кокетливая молодая женщина, которая мною не занималась, она постояно
куда-то убегала. Через двое суток сюда прибыл и Геннадий Князев с
приступом аппендицита. Неожиданно появился карел-разведчик, который
сообщил, что финны находятся в 10 километрах от Сегозера. Началась
паника, с этого момента врачиха у нас не появлялась, хотя у Князева
начался второй приступ аппендицита, а у меня температура держалась
на уровне 39-39,5. Рано утром услышали шум, топот бегущих людей, истерические
крики женщин и детей. Несмотря на наше тяжелое состояние, мы с Князевым
выбрались на улицу. Увидели, как большая группа людей, среди которых
была и наша врачиха, вместе с детьми и вещами садились в грузовые
машины. Две загруженные машины поехали, оставалась последняя машина.
Мы с Князевым попросили взять нас, но нам заявили, что сажают людей
только по списку. Тогда мы двинулись к Сегозеру, но и там опоздали
– буксир с баржей уже отошел от берега, увозя детей, женщин и группу
военных. Мы с Князевым чувствовали себя отверженными. Но надо было
что-то делать. Побрели к станции Масельской. Шли по берегу, откуда
брались силы? С большим трудом прошли километров 5 и неожиданно увидели
шеренгу солдат, одетых в серые шинели и сапоги. Мы приняли их за наши
карельские части. Скоро поняли, что ошиблись, это были финны. Мы с
Князевым бросились в лес и залегли в яму, наполовину заполненную водой.
Нас не заметили, финны в это время занимались буксиром на Сегозере.
Финские офицеры в бинокли рассматривали буксир и баржу, один из них
закричал: «Причаливайте к берегу, вам ничего не будет, останетесь
жить на своих местах.» Но буксир продолжал удаляться. Финский офицер
крикнул: «Если не остановитесь, будем стрелять.» Буксир удалялся.
Тогда финны начали стрелять по буксиру из небольшой пушки и сразу
поразили цель. Мы слышали раздирающие душу крики женщин и детей. Многие
бросались в воду. Финны прекратили обстрел, офицер, говоривший по-русски,
бросил фразу: «Сами виноваты.» Мы с Князевым продолжали лежать в яме,
даже забыли про свои болезни. Выглянув из ямы, я увидел, что к берегу
кто-то подплывает, но как-то странно машет руками, он тонул. Я шепнул
Князеву, что надо спасать тонущего. Князев пытался меня удержать,
говорил, что финны нас заметят. Но я все же пополз к берегу и вытащил
за волосы совсем обессилевшего мальчишку лет 12-13. Мы оба легли на
землю и ползком добрались до ямы. Князев был прав, финны нас заметили.
Несколько человек подошли к яме и, смеясь, начали кричать: «hu”ve
paive (здравствуйте)». Мы встали, с одежды стекала вода, лица и руки
покрыты грязью. Нас вывели на широкую асфальтированную дорогу. Здесь
я впервые увидел регулярную часть финской армии. Впереди шли несколько
офицеров, одетых довольно легко, за ними медленно двигались мотоциклисты,
а далее колонна легковых и грузовых машин с офицерами и солдатами.
На дороге собрали пленных, человек 100. Мы оказались свидетелями забавной
сценки. В числе пленных оказался карел-кучер с лошадью и коляской.
Коляска была загружена ящиками с маслом. Кучер на языке, понятном
финнам, просил их забрать масло, а его отпустить домой. Один из офицеров
приказал масло раздать пленным. Пленные, среди которых были и офицеры,
бросились к повозке, хватали ящики, с яростью срывали с них крышки,
стали жадно есть масло и набивать им карманы. Финны, видя эту сцену,
хохотали. Мы с Геннадием не подошли к повозке. Тошно было видеть все
это. К нам подошел один финский офицер, ткнул пальцем в сторону коляски
и сказал: «olka hu”ve (пожалуйста, возьмите).» Я покачал головой.
Тогда к нам подбежал один из пленных в военной шинели и пытался сунуть
масло в наши карманы. Я резко отстранил руку этого услужливого человека.
После этого финны начали с интересом меня рассматривать.
ЧАСТЬ Х11. ГЛАВА 3
Первые дни в финском плену. Лагерь в Суоярви. Лагерь пленных в Свят-Наволоке.
Либерализм и доброжелательность финнов. Одесский жулик и провокатор
Еремеев. Военный врач, сын русских эмигрантов, верит в будущее России.
Врач Карл Мари и его невеста Эрна.
Еще со времен первой войны с Финляндией, спровоцированной Гитлером,
в советских газетах пестрели статьи о зверском обращении финнов с
русскими пленными, якобы пленным обрезали уши и выкалывали глаза.
Я давно не верил советской прессе, но все же в каких-то мозговых клетках
отложилось подозрение в отношении народа, который сам себя называет
Суоми, то-есть, народом болот. Я хорошо знал, что Финляндия давала
приют многим русским революционерам, убегавшим из России. Ленин вернулся
из эмиграции через Финляндию. За время борьбы с царским самодержавием
в Финляндии сформировалась и активно действовала сильная социал-демократическая
рабочая партия. Ленин неоднократно находил прибежище в Финляндии.
В предыдущей главе я написал, что группа пленных оказалась на шоссе.
Небольшой конвой повел нас на север от Сегозера. Мы с Князевым решили
бежать, скрыться в лесу, а затем добраться до Масельской или Медвежьегорска.
Стали постепенно отставать от колонны, конвой на это не реагировал.
Мы быстро легли на землю и начали ползти к лесу. Прошли по лесу около
двух километров и неожиданно наткнулись на финских солдат. Они окружили
нас, мы решили, что это конец. Но два солдата спокойно вывели нас
на шоссе, догнали колонну пленных и передали нас конвою. Конвоиры
только кричали: - pargele, satana (черт, дьявол) – это распространенное
ругательство финнов. Нас никто даже пальцем не тронул, только нас
с Князевым поставили в первый ряд колонны. Один из конвоиров вытащил
из кармана фотографии и, тыча в них пальцем, на ломаном русском языке
говорил: «Это мой мать, это мой невест» и при этом широко улыбался.
Такую сценку можно было бы принять за братание солдат вражеских армий.
Нас привели в деревню, покинутую ее жителями.На улице ни души. По
5 человек разместили по избам и строго наказали, чтобы мы ничего не
трогали в избах. В нашей избе был полный порядок, на кровати аккуратно
сложенные подушки, на стене деревянный шкафчик, в котором стояли тарелки,
чашки, кастрюли, в углу висела икона с изображением Христа, под ней
на подставке еще горел фитиль в масле. На окошках занавески. В избе
тепло и чисто. Впечатление, что хозяева куда-то вышли. На полу лежали
самодельные коврики, на которые мы все улеглись. Несмотря на усталость,
я не спал, все думал о побеге. Ход моих мыслей был нарушен шумом,
привели новую партию пленных, это были пассажиры с обстрелянного буксира.
Наступил рассвет, распахнулась дверь, в избу вошли 4 финских офицера.
Мы все встали. Один из офицеров на русском языке заявил, что мы должны
покинуть избу, поскольку в деревню возвращаются ее жители, спасенные
финскими солдатами после обстрела буксира. Нас разместили в большом
сарае, где уже находилось несколько человек. Посередине на соломе
лежала забинтованная девушка, она сильно стонала. При обстреле буксира
на Сегозере эта девушка стояла возле парового котла. Снаряд попал
в котел и ее обварило паром. Лицо девушки было красным и в пузырях.
В этом же сарае оказался и спасенный нами мальчик, он бросился ко
мне и со слезами на глазах сказал, что его мать и сестру не спасли,
они утонули в Сегозере. Вошел финский офицер, принес большую кастрюлю
супа и галеты. Забинтованная девушка от еды отказалась, попросила
воды. Перед сном принесли бак с кипятком и всем дали по два кусочка
сахара. Мы с Князевым не спали, мой молодой друг спрашивал меня, что
с нами могут сделать финны. В советских газетах писали, что финны
зверски расправляются с военнопленными. Но пока с нами обращались
вполне по-человечески. Утром в сарай вошли 5 финских офицеров. Один
из них обратился к нам на ломаном русском языке: «Приготовьтесь, сейчас
будем отрезать у вас уши, носы и выкалывать глаза.» Мы приготовились
к самому страшному. И тут все офицеры и солдаты, стоявшие возле открытых
дверей, начали громко смеяться. Тот же офицер сказал: «Ваши газеты
клевещут, изображают нас изуверами. Мы никому ничего не сделаем плохого,
вы наши пленные, с вами будут обращаться, как с пленными, будете работать
до окончания войны, а потом мы вас отправим на родину.» Все облегченно
вздохнули, начали улыбаться. Принесли завтрак: кашу, чай и по два
кусочка сахара. Приехала санитарная машина, увезли обожженную девушку,
двух больных и мальчика, спасенного нами. Он подбежал ко мне и со
слезами стал прощаться. Я погладил его по светлым волосам и отвернулся.
Всегда тяжело видеть страдающих детей. Душевная растерянность и раздвоенность
охватили меня в плену, мысли путались, не мог сосредоточиться. Я видел,
что условия существования в финском плену не идут ни в какое сравнение
с условиями в советских концлагерях. В Финляндии не издевались над
пленными, не унижали, на родине же политическому заключенному постоянно
дают понять, что он не человек, а раб, с которым можно поступать,
как угодно. Но одно обстоятельство постоянно беспокоило меня, это
еврейская проблема. Ни один народ на нашей планете не преследовался,
как евреи. Не за то ли, что они не пожелали преклонить свои головы
перед глупостью? Не за то ли, что дав христианам бога-человека, евреи
не хотели пасть на колени перед ним, превращенным в идола? Никогда
так остро, можно сказать, судьбоносно, не стоял еврейский вопро,.
как после прихода фашистов к власти в Германии. Меня мучил вопрос:
неужели демократическая Финляндия по отношению к евреям занимает такую
же позицию, как фашистская Германия? Мои тяжелые раздумья прервались.
Всех из нашего сарая посадили в машины, вместе с нами сели два финских
солдата. Двинулись по широкой асфальтированной дороге. Много встречных
машин с солдатами и провиантом. Шофер одной из встречных машин сбросил
на дорогу две большие коробки с галетами и что-то крикнул по-фински.
Наш шофер остановил машину, крикнул, чтобы мы слезли, подобрали коробки
и разделили галеты между собой. Маленький эпизод, но весьма характерный.
К вечеру прибыли в большой лагерь Суоярви, где содержались пленные,
военные и гражданские. Среди администрации этого лагеря была небольшая
группа фашистов, которая сразу проявила себя по отношению к пленным.
Утром всех пленных построили по два человека за получением завтрака.
Группа фашистов следила за порядком, они кричали, требовали, чтобы
мы смотрели друг другу в затылок, не разговаривали. Один пленный,
неизвестно, по какой причине, вышел из строя. Один из офицеров-фашистов
выстрелил в него и убил. Мы все напряглись. Но тут произошло то, что
трудно было нам предположить. Кое-что поясню. В Финляндии некоторые
граждане принципиально отказывались принимать участие в войне. одни
– по нравственным убеждениям, другие – по религиозным. Их называли
«отказниками» и весьма своеобразно наказывали: если это был солдат,
с него снимали погоны и ремень и вместе с дезертирами помещали в отдельную
палатку на территории лагеря для военнопленных. Такая палатка стояла
и в лагере Суоярви, в ней находилось 10 человек, рослые, крепкие ребята
с осмысленными лицами. Когда они увидели, что офицер убил пленного,
эти ребята подскочили к стрелявшему офицеру и начали бить его, выхватили
у него пистолет, который забросили за забор лагеря. Комендант лагеря,
пожилой фельдфебель, спокойно подошел к избитому фашисту, лежавшему
на земле, поднял его за шиворот, подвел к воротам лагеря и сильным
ударом по заду ногой вышиб за ворота и крикнул: «poisch, pargele,
satana (прочь, черт, дьявол).» Затем комендант подошел к нашей очереди
и на ломаном русском языке громко заявил: «Такие люди, как этот стрелявший
фашист, позорят наш народ, мы никому не разрешим издеваться над вами,
вы не несете ответственности за своих правителей.» Поведение «отказников»
и коменданта лагеря произвели на меня очень сильное впечатление. После
этого события для меня кое-что прояснилось. Мне стало ясно, что Финляндия
является страной, где соблюдение законов обязательно для всех, что
в финском народе нет корней для широкого распространения идеологии
фашизма и антисемитизма. Я понял, что в советских газетах о Финляндии
публиковалась беспардонная ложь. Через день после этих событий пленных
повели в соседнюю деревню, чтобы помыться в бане. В бане нам выдали
свежее белье. После бани мы не вернулись в прежний барак, нас размесили
в большом бараке, где не было большой скученности, хотя нары были
двойными. Я оказался на верхних нарах между Геннадием Князевым и Василием
Ивановичем Поляковым, уроженцем города Тамбова. Он попал в плен возле
Сортавала, рассказал, что финская армия без боя заняла Петрозаводск,
но дальше не продвигалась, хотя немцы требовали от финского командования,
чтобы оно двинуло свои части к Ленинграду, окруженному немецкими войсками.
Несколько позже я узнал от финнов, что депутаты финского сейма от
социал-демократической партии в категорической форме потребовали от
правительства, чтобы оно руководствовалось стратегическими интересами
Финляндии, а не Германии. Оказывается, главнокомандующий финской армией
Маннергейм и президент Финляндии Рютти входили в партию «прогрессистов»,
возникшую в годы, когда Финляндия входила в состав Российской империи.
И что меня очень удивило и обрадовало – это позиция финского правительства
по еврейскому вопросу. Несмотря на большое давление со стороны фашистской
Германии, Финляндия не допустила, чтобы на ее территории преследовали
евреев и как-то дискриминировали. Более того, евреи служили в финской
армии. В обстановке, когда Финляндия была союзницей Германии в войне
и когда немецкий фашизм провозгласил геноцид евреев главным направлением
своей деятельности, позиция Финляндии требовала очень большого мужества
от ее руководителей.
В лагере Суоярви кормили нас неважно, в течение дня выдавали по 3-4
галеты, две порции супа из гнилой картошки и небольшую порцию каши.
Иногда бывало и мясо - конина. Нас посылали в места, где недавно шли
бои, и мы оттуда привозили убитых лошадей. Тех, кто попал в плен в
гражданской одежде и не принимал участия в боях, переводили в лагерь
Свят-Наволок. Перевели и меня, и Князева. Свят-Наволок – это большая
деревня, расположенная в лесу на берегу озера. Никакой ограды здесь
не было, была лишь комендатура во главе с седым, добродушным фельдфебелдем
лет 50-ти. Он как-то сказал нам на ломаном русском языке: «Маннергейм
больше ваш, чем наш, он был предан русскому царю, он не финн, а швед.»
Можно было заметить, что финские солдаты и офицеры весьма критически
относились к высокому военному начальству. В Свят-Наволоке пленных
распределили по крестьянским избам, в которых все вещи остались нетронутыми.
Фельдфебель нас предупредил, чтобы мы не трогали крестьянского добра.
Большинство крестьян из карел не захотели эвакуироваться в ожидании
финнов, они спрятались в лесу. В избе, куда поместили меня, Князева
и еще 5 человек, была большая русская печь, в середине стоял большой
деревянный стол, вокруг деревянные скамейки. В отдельной комнате две
кровати, покрытые лоскутными одеялами, с горой подушек. В лагере не
было ни столовой, ни кухни, нам выдавали сухой паек на месяц, мы сами
варили суп и кашу. В ближайшем озере водилось много рыбы, под наблюдением
финского солдата пленные сетями ловили рыбу. Среди пленных были и
бывшие жулики, среди них выделялся одессит Еремеев. Он выдавал себя
за потомственного дворянина, сына князя Волконского. Еремеев сочинил
такую историю. Якобы его родители после революции решили на пароходе
из Одессы выехать за границу. При посадке на пароход Еремеев, будучи
мальчиком 10 лет, убежал. Его поймала милиция, отправила в детский
дом, где он провел несколько лет уже как Еремеев, а не Волконский.
Еремеев говорил финнам, что его родители живут в Париже, и он просит
его туда отправить. Все пленные понимали, что это бездарно сочиненная
легенда, а простодушные финны верили Еремееву. Внешность у Еремеева
была подкупающая, он умел изображать из себя аристократа. Он также
неплохо играл на гитаре и пел опереточные песенки – это нравилось
финским солдатам. Жулику Еремееву доверили раздавать нам сухой паек.
Если в лагере не было муки, финны давали ему лошадь с телегой, и он
свободно отправлялся в соседние деревни на поиски муки. Одна из девушек,
находившихся в лагере, влюбилась в Еремеева, этот роман оказался довольно
устойчивым, он потом продолжался уже в советском концлагере. Еремеев
в плену занял резко антисоветскую позицию, он начал пописывать статейки
в газету для пленных, в которых изображал страдания русского народа
под пятой большевиков. Однажды Еремеев явился ко мне и сказал: «Мне
известно, что вы были профессором философии и неоднократно сидели
в советских тюрьмах и концлагерях как оппозиционер.» Я был удивлен
такой осведомленностью Еремеева, поскольку в плену никому не рассказывал
о своем прошлом. В конце концов я узнал, откуда он получил сведения
обо мне. Во время обыска в Суоярви финны отобрали у меня бумажник,
в котором хранилась справка, выданная мне в декабре 1939 года управлением
Воркуто-Печерских концлагерей при моем освобождении. В той справке
и было кратко написано о моем прошлом, о моей работе и о всех арестах.
Как видно, финны настолько доверяли Еремееву, что показали ему эту
справку и это побудило Еремеева обратиться ко мне. Предприимчивый
одессит хотел, ччтобы я в газете для пленных рассказал о своей жизни.
Я категорически отказался, а Еремеев не отставал от меня. Он, например,
задал мне такой вопрос: «Считаете ли вы Финляндию демократической
страной?» Вот что я ответил: «Да, Финляндия страна демократическая,
поскольку в этой стране несколько политических партий, в том числе
рабочая и крестьянская. Все партии действуют открыто, имеют свои газеты,
в которых могут отстаивать любую позицию.» В дальнейшем, когда я попаду
в руки к советскому следователю, Еремеев будет давать показания к
качестве «свидетеля» и вспомнит и эту нашу беседу.
Пленных выводили на работу, мы пилили бревна, заготовляли дрова, очищали
дороги. Финны очень тщательно следили за состоянием дорог, требовали
подбирать совсем небольшие камешки.
Мой молодой друг Геннадий Князев предпочел работу в комендатуре. Я
не советовал ему идти на эту работу. Но все получило неожиданный оборот.
В комендатуре работала молодая, красивая финка, она сурово обращалась
с русскими пленными, называла их собаками и шакалами. И вот она обратила
внимание на красивого, голубоглазого Князева, вначале говорила ему,
что он не похож на русского, а скорее на финна, а затем влюбилась
в него. Для Князева это окончилось трагически. Эта красивая девушка
входила в молодежную организацию фашистского толка. Небольшая часть
финской молодежи оказалась под влиянием профашистски настроенных профессоров
и литераторов. Они мечтали о завоевании всего Севера вплоть до Урала.
Мотивы выдвигались весьма примитивные, мол, русский север заселен
финскими племенами: карелами, коми, ингерманландцами и т. д. В этом
духе финка обрабатывала и неустойчивого Князева. Кроме того, она касалась
и области сексологии, доказывала Князеву, что истинный финн, как и
ариец, отрицает моногамный брак, что в браке никакой роли не играет
моральный фактор, а решающее значение имеет плотская любовь, направленная
на оздоровление расы. Князев совершенно откровенно обо всем этом рассказывал
мне. Я решил немного просветить моего друга в части расизма, поведал
ему, что французский натуралист Бюффон впервые воспользовался термином
«раса» применительно к животным. Бюффону не приходило в голову, что
этот термин будет использован с целью натравливания одного народа
на другой, что появятся «научные теории», определяющие неполноценность
целых народов по цвету кожи и волос, по форме носа и глаз. Я объяснял
моему другу, что расизм – это «философия» озверелых фюреров, которые
ориентируются на низменные инстинкты широких масс. Я говорил о фашистской
Германии, когда в нашу избу зашел Еремеев. Он задал мне такой вопрос:
«Не думаете ли вы, Григорий Исаевич,что в настоящее время Германия
настолько сильна, что она в состоянии поставить на колени не только
Советский Союз, но и Англию?» Я насторожился, понял, что Еремеев хочет
втянуть меня в беседу по весьма щекотливому вопросу. Я отвечал эзоповским
языком, говорил, что когда-то Германия могла нанести решительный удар
по Римской империи. Германия пережила огромный культурный подъем во
времена Гете и Шиллера, Бетховена и Моцарта. Тогда Германия не была
заражена нацизмом в такой степени, чтобы нацизм стал государственной
идеологией. А вот в ХХ-ом веке расизм, шовинизм – типичная идеология
мещанина широко распространилась по странам Европы. Но о значительных
политических и социальных явлениях и процессах надо судить, основываясь
на известном положении Спинозы: «sub specie aeternitatis» (под углом
зрения вечности). Например, именно так смотрела на будущее горсточка
назаретян, начавшая поклоняться Христу. Могущественный Рим жестоко
преследовал их. Но вера этой горсточки людей овладела миллионами,
а могущественный Рим исчез. Если под углом зрения не вечности, а хотя
бы нескольких лет взглянуть на процессы, происходящие в мире, то нет
сомнения, что в Европе государства с официальной фашистской идеологией
потерпят крах. Мои рассуждения явно смутили Еремеева, и он молча вышел.
А мы с Князевым еще немного поговорили на эту тему, Князев не сомневался,
что фашистская Германия будет полностью разгромлена. Закончу рассказ
о Князеве. В конце 1943 года я узнал, что его финская возлюбленная
уезжала в Финляндию и предложила Князеву ехать вместе с ней. Князев
отказался, после чего возлюбленная застрелила его.
Теперь я остановлюсь на довольно щекотливом вопросе, который волновал
многих пленных: сохранять ли верность СССР или предпочесть Финляндию,
в то время союзницу Германии. Некоторые пленные, в том числе и бывшие
члены партии, критиковали советскую систему и положительно относились
к нападению Германии на СССР. Мне же, бывшему оппозиционеру, которого
советская власть уже много лет подвергала репрессиям, приходилось
доказывать им, что победа фашистской Германии означала бы рабство
для всех народов и СССР, и Европы. Я обращал внимание сторонников
Германии на то, что большинство финнов, включая и военных, являются
противниками национал-социализма. В такое время, когда решается судьба
многих стран, надо стоять на стороне антигтлеровской коалиции. Получилось
так, что два кровавых тирана, Гитлер и Сталин, ввергнувшие человечество
в страшную пучину мировой войны, оказались в разных военных лагерях.
В этой обстановке, несмотря на огромные страдания, причиненные народу
Сталиным и его кликой, необходимо быть верным СССР, который вошел
в союз с демократическими государствами Запада ради разгрома фашистской
Германии. Можно было понять финнов, которые силой обстоятельств были
вынуждены пойти на военный союз с Германией. По-существу, это была
своеобразная реакция на войну СССР против Финляндии в 1939-1940 году.
Всякое правительство в определенной степени является зеркалом народа
той или иной страны, но одновременно и поведение народа зависит от
правительства. Но не существует полного тождества между поведением
народа и его верховными правителями. Народ не может отвечать за развязывание
войн.
При комендатуре нашего лагеря создали амбулаторный пункт, куда периодически
приезжали врачи. Я заболел острым бронхитом и пошел на прием к врачу.
Приехавший из Хельсинки молодой врач прекрасно владел русским языком.
Я поинтересовался, где он обучался русскому языку. Врач сказал, что
он не финн, а русский. Его родители до революции жили в Петербурге,
отец был владельцем магазина модельной обуви на Петроградской стороне.
В 1918 году семья эмигрировала в Финляндию, когда теперешнему врачу
было 3 года. В Финляндии он окончил гимназию, затем медицинский факультет
в Хельсинки. Теперь он военный врач. Мы разговорились. Врач очень
интересовался Советским Союзом и особенно Ленинградом, где он провел
первые годы своего детства. Я сказал, что в Ленинграде сохраняются
необыкновенные архитектурные ансамбли и музеи, созданные в основном
за последние два столетия. Но немецкие варвары собираются разрушить
этот один из красивейших городов мира. Коснулся я кратко и внутреннего
положения в СССР. Молодой врач слушал меня с большим интересом. В
результате он изложил и свое мнение. Вот что он сказал: «Когда я читаю
в сводках об успехах Германии, о том, что немцы захватывают один город
за другим, у меня буквально кровь стынет… Я не хочу, чтобы Россия
стала немецкой колонией, тогда русские будут нести двойной гнет, социальный
и национальный. Мало радости народам России, пока там господствует
современный Чингис-хан –Сталин … Не только я, но и многие русские
эмигранты считают деспотизм Сталина преходящим явлением… Но было бы
ужасно, если бы Россия попала под власть гитлеровской Германии.» Молодой
врач говорил все это эмоционально и очень искренне. Я ему верил. С
волнением, пройдясь по комнате, врач спросил меня, что я делал на
родине, где учился, какова моя профессия. Я кратко рассказал о себе,
о моем увлечении философией с молодых лет и о том, что в силу обстоятеоьств
мне пришлось сменить профессию, переключиться на геологию и географию.
Врач поинтересовался, почему так получилось. Мне не хотелось говорить
о моих злоключениях, но кое-что я все же сказал. Объяснил, что в СССР
нет свободы слова и мысли, а я в своих работах на философские темы
и в публичных выступлениях по политическим вопросам излагал мысли,
которые не нравились властям, а иногда выступал и с критикой режима.
После октября 1917 года советская власть сразу начала бороться с инакомыслящими,
но в первые годы наказания сводились к административным ссылкам. Но
очень быстро масштабы и жестокость репрессий возрастали, последовали
аресты, тюрьмы, концлагеря и расстрелы. Вот я и попал в эту мясорубку.
На врача мое небольшое повествование, как видно, произвело большое
впечатление, он начал пожимать мне руки, спрашивал, чем он может помочь
и даже предложил деньги. От помощи и денег я отказался. Хочу отметить,
что не только этот врач, а все врачи, которые приезжали в наш амбулаторный
пункт, проявляли к нам, пленным, большое внимание, очень тщательно
осматривали каждого больного, если требовались лекарства, то они доставлялись
в тот же день. Ни с чем подобным я не сталкивался в СССР, находясь
на воле. В нашем лагере произошел бытовой несчастный случай. Стояли
сильные морозы, во всех избах хорошо топили печки. В одной избе кто-то
слишком рано закрыл дымоход печи, все спавшие в избе сильно отравились
угарным газом, один, сердечник, умер. Его похоронили на пригорке,
возле нашей деревни.
Однажды в наш амбулаторный пункт приехал красивый молодой человек,
роста выше среднего, жгучий брюнет с веселыми глазами. Он обходил
все избы, где проживали пленные, подробно расспрашивал о состоянии
здоровья, о том, как нас кормят, как с нами обращается лагерная администрация.
Это тоже был врач, и опять не финн, а француз. По-русски он не знал
ни слова, спросил, есть ли среди пленных, кто умеет говорить на каком-либо
европейском языке. Товарищи указали на меня, я сказал, что неплохо
владею немецким языком. Врач подошел ко мне, протянул мне руку и на
немецком языке представился: «Я Карл Мари, моя родина Франция, я прошу
вас быть моим переводчиком между мною и больными». Я согласился, мне
Карл Мари понравился. Оказалось, что он учился на одном курсе с тем
русским, который приезжал к нам до него. И действительно, Карл Мари
был по темпераменту настоящим французом. Он много лет поржил в Финляндии,
но северная страна не оказала никакого влияния на его темперамент.
После врачебного приема он очень красочно обрисовал свою биографию.
Карл Мари родился в Париже, рано потерял своих родных, почти ребенком
приехал к своей сестре в Хельсинки. Его старшая сестра была замужем
за финном, она воспитывала его и дала ему образование. Карл Мари узнал
от своей сестры, когда он стал студентом университета, тайну своего
отца. Оказывается, отец Карла был французским социалистом, в свое
время открыто стал на защиту Дрейфуса. Карл Мари был очень веселым
и откровенным собеседником. Поражала его удивительная прямота. Он
со мной говорил, словно мы знакомы давно. Однажды в беседе со мной
он вдруг решил поведать мне свою личную тайну, сказал, что собирается
жениться, что его невеста образованная финка и человек с широким кругозором.
Тут же прибавил, что хочет меня познакомить со своей невестой и узнать
мое мнение о ней. Человек так мало меня знает, я пленный, советский
гражданин - и он хочет узнать мое мнение о своей невесте. Хотя я великолепно
понимал, что разговариваю с французом и что непосредственность и простота
– национальное свойство, все же мне все это казалось довольно странным.
И действительно, через неделю Карл Мари приехал к нам в лагерь со
своей невестой. Она помогала ему во время врачебного приема, очень
ловко делала инъекции больным, трогательно накладывала бинты на ногу
русской девушки, попавшей на мину. Как я потом узнал, девушка эта
принадлежала к какому-то партизанскому отряду. После амбулаторного
приема Карл Мари попросил меня остаться. Мы втроем сели за стол. Молодой
француз пишет на немецком языке записку и передает ее мне, я прочитал:
“Sie ist die Schonste Madchen in der Welt”. Прочитав ее, я на оборотной
стороне записки написал тоже по-немецки: “Genug, das Sie ist die Schonste
Madhen in Finland”. С моей стороны это был не просто комплимент. Невеста
Карла Мари отличалась яркой красотой. Высокая, хорошо сложенная блондинка
с красивым лицом поражала своими большими темно-синими глазами, прекрасной
улыбкой, освещавшей все ее лицо. Прочитав мой ответ, молодой француз
захохотал, прошелся несколько раз по комнате. Его невеста бегала за
ним, пытаясь вырвать у него записку. Мари спросил меня, разрешу ли
я его невесте прочитать мой ответ. Когда она этот ответ прочитала,
все ее лицо просветлело, в глазах появились какие-то огоньки, порывисто
она бросилась ко мне и начала целовать мою седую голову. В ее глазах
появились слезы.
Через 5 дней к лагерю подкатила машина. Из машины вышли Эрна, так
звали невесту врача, и Карл Мари. Из машины они вытащили два больших
бумажных мешка, попросили коменданта вызвать меня. Эти два мешка были
вручены мне. Француз и молодая финка привезли мне зимнее пальто, шерстяной
свитер, прекрасное нательное белье, две простыни, пять пар носок,
два полотенца, дюжину носовых платков и много вкусных продуктов, о
которых пленный мог только мечтать. Мари вручил мне бумажку, в которой
перечислялись все предметы, лежавшие в двух мешках. Я растерялся,
не знал, как себя вести, почувствовал, что на глазах у меня появились
слезы. Порывисто я бросился к Эрне, схватил ее руки и поочередно целовал
то одну, то другую. Красивая финка заплакала. И вдруг бросила очень
интересную реплику на немецком языке: «Знаете, профессор, (они знали
меня как русского профессора), что все образованные финны относятся
с презрением к фашистам и любят ваш многострадальный народ… Мы любим
вашего Толстого, Пушкина, Тургенева, Чайковского, мы много читали
о ваших декабристах, народовольцах.» Невеста Карла Мари училась в
консерватории и прекрасно разбиралась в музыке, хорошо знала русских
классиков, восторгалась Верстовским, особенно его «Аскольдовой могилой»,
Рахманиновым, Бородиным. Сказала, что в Финляндии Чайковского любят
больше Моцарта и даже Бетховена. Высокую оценку она дала опере Даргомыжского
«Русалка».
Это было перед самым новым годом. На сей раз Мари не делал приема
больных. Его невеста настояла на специальном приезде в наш лагерь,
чтобы вручить мне новогодние подарки. Трогательно мы расстались с
этой обаятельной женщиной и ее женихом. Улыбаясь, финка пригластила
меня на свадьбу, подчеркнула, что ее свадьба состоится не раньше окончания
войны, к этому времени она закончит консерваторию. В Финляндии очень
редко устраивались свадьбы во время войны. Молодой француз и его невеста
были абсолютно убеждены, что когда кончится война, я смогу свободно
приехать в Финляндию к ним на свадьбу. Может быть, они прислали мне
приглашение на свадьбу, но это приглашение до меня не дошло, так как
после окончания войны я уже двигался по советским этапам. Я пишу эти
строки почти через 30 лет, и все же в моей памяти до сих пор сохранились
образы французского врача Карла Мари и его неветсты Эрны.
После отъезда врача и его невесты я притащил мешки в свою избу, где
мы устроили предновогодний пир, наелись досыта и улеглись спать.Я
решил вкусные вещи понести девушке-партизанке, которая лежала в лагерном
стационаре. Мне хочется несколько слов сказать об этой партизанке.
Получив задание, она ходила по узким тропам карельского леса, наступила
на мину и получила глубокую рану на голени. Ее подобрали финские солдаты.
Она рассказала мне подробно свою биографию.
Молодую партизанку звали Анфисой. Мать ее карелка, отец русский моряк.
В 1941 году в партизанский отряд она ушла вместе с другими комсомольцами
Медвежьегорска. Как и все мы, имела особое представление о финнах.
Когда же непосредственно столкнулась с ними лицом к лицу, убедилась,
что они вовсе не такие страшные. Особенно ей понравилась невеста Карла
Мари, которая очень нежно за ней ухаживала в стационаре, делала ей
перевязки, меняла бинты. Анфиса мне рассказала, что финские солдаты,
подобравшие ее в лесу, обращались с ней деликатно, на легковой машине
доставили ее в Свят-Наволок. Все это, естественно, в сознании девушки
– советской партизанки рождало какое-то недоумение: враги вовсе не
таковы, какими их изображали в советской прессе. В моем собственном
сознании также происходила какая-то метаморфоза. Русский эмигрант,
окончивший медицинский факультет в Хельсинки, тосковал по родине,
искренне радовался, когда Красная армия одерживала победы. Замечательный
француз, воспитанный в буржуазной среде, с любовью относился к советским
пленным, его невеста-финка всячески помогает больным пленным. Настоящий
человек при всех обстоятельствах сохраняет свою человеческую сущность.
В Свят-Наволоке было немало молодых женщин, которые быстро освоились
в плену, многие сближались с финскими солдатами и офицерами. Финны
оказались неплохими кавалерами, дарили женщинам подарки, ремонтировали
избы, где они жили, привозили дрова, сахар, муку. В амурных делах
быстро исчезали все социальные и политические перегородки, искусственно
сооруженные моралистами.
Из Свят-Наволока пленных увозили на лесозаготовки, меня тоже увезли.
Вблизи нашего лесного лагеря располагалась воинская часть. Финские
солдаты жили в домиках, сделанных из спрессованных древесных стружек.
Я впервые видел такие домики. Несколько домиков собрали на наших глазах
за 5-6 часов. Уже в те годы финны из древесины делали все, что угодно.
Я настолько овладел финским языком, что мог читать финские газеты:
«Социал-демократ», “Uusi suomi” и другие. Эти газеты нам приносили
финские офицеры, среди которых было много членов социал-демократической
партии Финляндии. Один старшина, социал-демократ, фотографировался
с пленными. Он и меня попросил об этом, сказал, что фотографии привезет
жене, как память о войне. Мне дали несколько фотографий, которые впоследствии
попали к моему следователю. Из финских газет я узнавал последние новости.
Немцы захватили Белоруссию, Украину, подошли к Москве. Финны захватили
Петрозаводск, почти без боев продвинулись глубоко в Карелию. Я был
свидетелем того, как советские войска панически бежали. Это была огромная
трагедия, в первую очередь русского народа. Я убежден, что всего этого
могло не быть, если бы в СССР власть не захватил грузинский маньяк,
по указанию которого была уничтожена основная часть наиболее опытных
командиров Красной армии, в том числе и талантливые военачальники,
знаниям и умению которых отдавали должное военные многих государств.
Финны на занятой ими территории не вели крупного строительства, они
лишь ремонтировали железные и автомобильные дороги.
В Финляндии никто не верил в окончательную победу Германии. Помню,
один финский офицер, социал-демократ, открыто говорил: «Победы Германии
кратковременны, страны, создавшие ось Берлин-Рим- Токио неизбежно
будут разгромлены таким мощным союзом, как США, Россия, Англия и Франция.»
Это явно антифашистское высказывание слышали многие, но никто не возразил.
Я удивлялся, что в Финляндии, несмотря на военное время, каждый мог
говорить, что угодно, даже критиковать главнокомандующего Маннергейма
и президента Рютти.
На лесозаготовках я пробыл до конца весны 1942 года, меня вернули
в Свят-Наволок.
ЧАСТЬ 12. ГЛАВА 4
Плен, Хельсинки, Геологическая Комиссия.
Много неожиданных зигзагов и поворотов было в моей жизни. Но трудно
было предположить, что в финскои плену в моей жизни произойдет что-то
особенное. Но пути господни неисповедимы. И вот совершенно неожиданно
меня вызывают в столицу Финляндии. Я крепко спал на нарах, меня разбудил
финский солдат и предложил следовать за ним. Мы пришли в канцелярию
лагеря. Финский офицер из ящика стола вытащил какой-то документ и
прочитал следующее, вначале по-фински, затем на ломаном русском языке:
«Приказываем направить военнопленного профессора Григорова Григория
Исаевича в распоряжение Геологической Комиссии в Хельсинки. Сопровождать
Григорова будет сержант, комендант Геологической Комиссии.» Мне выдали
штатское пальто и предложили собрать свои вещи. Каким-то образом пленный
одессит Еремеев, выдававший себя за потомка князя Волконского, узнал,
что меня повезут в Хельсинки. Он просил меня передать от него пакет
Маннергейму или президенту Рютти. Еремеев объяснил, что родственники
князя Волконского проживают в Париже, и в пакете письмо, в котором
он просит отправить его, Еремеева, во Францию. Я знал, что одесские
жулики и авантюристы, например, Мишка Япончик и Сонька- золотая ручка,
любили выдавать себя за графов, герцогов и герцогинь. Воследствии,
попав в контрразведку СМЕРШ, я узнал, что Еремеев был актером. Мы
с сержантом сели в грузовую машину, сержант сказал, что сначала заедем
в Петрозаводск, побываем в управлении финских лагерей. Мы ехали по
дорогам Карелии. Большие сосны и ели, карельская береза, озера, небольшие
бурные речки с шумными водопадами, невысокие скалы – «бараньи лбы»,
отшлифованные ледником. Все это действовало на меня благоприятно,
успокаивало. Сержант, пользуясь финскими, немецкими и русскими словами,
рассказал о себе. До войны он жил в деревне возле Тампере. В 1939
году его мобилизовали, во время советско-финской войны он был дважды
ранен, после чего его назначили комендантом Геологической Комиссии.
Сержант поднял палец, улыбнулся и с гордостью сказал: «Геологическую
Комиссию Финляндии возглавляет профессор Лайтакари, ученый, которого
знают во всем мире, хороший человек.» Вот и Петрозаводск, расположенный
террасами на берегу Онежского озера, кругом лес и скалы. Проехали
мимо каменного двухэтажного дома, где когда-то жил Державин, тогда
губернатор Олонецкой губернии. Наша машина остановилась возле двухэтажного
здания, сержант сразу повел меня в столовую, затем привел в комнату,
где стояли кровать, стол и стул. Сержант сказл, что оставляет меня
в этой комнате на ночь и предупредил, что я не должен без него куда-либо
выходить. Не раздеваясь, я лег на кровать. Вспомнил, что в середине
20-х годов я чуть не попал в Карелию, когда ЦК партии решил меня наказать
за публичное выступление в защиту Троцкого. Меня вызвал заворготделом
ЦК партии Л. Каганович и предложил поехать в Карелию в качестве народного
комиссара просвещения. Тогда Станислав Косиор, секретарь Сибкрайкома
партии убедил Кагановича вместо Карелии направить меня с женой к нему
в Сибирь. В 5 часов утра сержант разбудил меня. Я помылся, и мы опять
пошли в столовую. Завтрак состоял из картошки в мундире, сыра и молока.
Оказывается, картошка в мундире – национальное блюдо финнов. Пешком
отправились на вокзал, сели в пассажирский поезд Петрозаводск-Хельсинки.
Вагон был заполнен мужчинами, женщинами и детьми, преобладали военные.
Я смотрел в окно вагона, проплывали деревушки, хутора, разрушений
не видел, мирно паслись коровы, у избушек сидели старики и старушки,
бегали дети – никаких признаков войны. Но вот показались воронки от
бомб, груды кирпича – это город Выборг, разрушенный советской авиацией.
Вдруг все пассажиры высунулись из окон вагона и стали смотреть на
небо. Над железной дорогой пролетала эскадрилья немецких «мессершмитов»,
они направлялись в сторону Ленинграда. В вагоне стало тихо, даже дети
перестали шуметь. А в моей памяти всплыли Невский проспект, Исаакиевский
собор, Смольный, «Астория» – образы далекого прошлого. Сержант, заметив
мое состояние, махнул рукой в сторону промчавшихся самолетов, сказал:
«paha, paha (плохо, плохо).» Я прислушивался к разговорам пассажиров,
многое уже понимал по-фински. Меня удивило, что люди, несмотря на
огромные успехи немцев в войне, критичекски относились к Германии.
К нам подошли два финна, заговорили с сержантом. Узнав от него, что
я русский военнопленный, пожали мне руку и выразили надежду, что я
скоро вернусь на родину к своей семье. Один из них, невысокого роста,
широкоплечий, сказал следующее: «Я член финской социал-демократической
партии, ваш Ленин, когда боролся с царизмом, тоже был социал-демократом,
нередко бывал в Финляндии, здесь его встречали доброжелательно. Финляндия
– страна демокоатическая, например, я сейчас ездил в Петрозаводск
в качестве члена комиссии по надзору за деятельностью финских властей
в Карелии. Финны ничего общего не имеют с фашистами, хорошо относятся
к русскому народу.» Я попросил социал-демократа немного рассказать
о себе, о том, что он думает о Советском Союзе. Вот кратко, что он
сказал: «Я квалифицированный рабочий, работаю на судоремонтном заводе
в Хельсинки. Хорошо владею немецким языком, на немецком читал труды
Маркса, Каутского, Гильфердинга, Плеханова. Считаю, что Сталин не
имеет ничего общего с рабочим движением, он оказался у власти потому,
что русский пролетариат недостаточно зрелый. В Финляндии такой человек,
как Сталин, никогда не смог бы придти к власти.» Я молчал, социал-демократ
затронул слишком серьезный вопрос. Пока еще никто не объяснил, в силу
каких объективных и субъетивных факторов Сталин, человек в основе
примитивный, мало известный в партии, сумел стать единоличным диктатором
и уничтожить практически всех выдающихся деятелей русской революции
и международного рабочего движения. Мимо окна проплывали сооружения
знаменитой линии Маннергейма: доты, бетонные траншеи, «ежи», бетонные
конусообразные заграждения. Эта линия протянулась от Выборга до Хельсинки.
Я довольно много читал о природе Финляндии, имел кое-какое представление
о геоморфологических особенностях этой северной страны. И вот я увидел
так называемую фенноскандию, это древнейшие структуры Северной Европы,
известные в геологии под названием Каледонской складчатости. Вот он,
Балтийский кристаллический щит. Ледники здесь основательно поработали,
расчленили твердые массивы, образовали десятки тысяч озер. Поезд буквально
врезался в часть массива и двигался между отвесными скалами. Вот и
Хельсинки – крупный портовый город на западе Финского залива. Красивый
и очень чистый вокзал, никакого шума, никакой суеты, много военных.
На скамьях лежали груды чемоданов, рюкзаков, сумок, а рядом никого.
Я спросил сержанта: «Разве можно оставлять багаж без присмотра?» Сержант
объяснил, что в Финляндии воров нет. От вокзала до Геологической Комиссии
мы пошли пешком, мне хотелось побольше увидеть. Я не переставал удивляться
благоустроенности и чистоте города. Архитектура зданий простая, без
вычурностей, но изящная, много зелени. Геологическая Комиссия размещалась
в трехэтажном здании, к которому примыкал большой двор. Во дворе размещались
разнообразнейшие образцы гранитов, большая часть которых отполирована.
Спустились в полуподвальное помещение. Там в нескольких больших комнатах
на полках были разложены образцы горных пород и минералов. На всех
образцах наклейки с указанием названия породы или минерала, места
и даты их обнаружения. Я смотрел на эту богатую коллекцию и вспомнил
мою геологическую работу в Воркуто-Печерских концлагерях, когда я
интенсивно набирался знаний от крупнейших ученых-геологов. В этом
подвальном помещении стояло много различных станков для обработки
горных пород и минералов. Тут же жил и комендант. Он предложил мне
помыться и пригласил в свою скромно обставленную небольшую квартирку.
Сержант сварил кофе, на тарелку положил галеты, объяснил мне, что
хлеб в Хельсинки во время войны стал редкостью, а до войны зерно и
муку привозили из Советского Союза.
Сержант на весь день оставил меня одного. Я много времени провел во
дворе, где с большим интересом рассматривал расставленные там гранитные
глыбы. Это была уникальная коллекция финляндских гранитов. Особенно
меня поразили два гранита – рапакиви (гнилой гранит) и глазастый (на
черной основе крупные вкрапления кварца и слюды сверкали, как глаза).
В этой коллекции были также представлены образцы известняков, крупные
минералы кальцита, мрамора, лабрадора, сиенита, диабаза. Мне трудно
было оторваться от красоты этого каменного царства. Вечером сержант
принес мне ужин и предупредил, что утром меня будет ждать профессор
Лайтакари. Я всю ночь не спал, все думал,чем будет интересоваться
профессор Лайтакари. Я имел элементарное представление о географии,
истории, экономике и культуре Финляндии, знал, что по территории теперешних
Финляндии и Швеции в свое время двигался Скандинавский ледник, в результате
чего в теперешней Финляндии насчитывается 50 тысяч озер. Знал, что
в Финляндии изготавливается лучшая в мире бумага и на высоком уровне
деревообрабатывающая промышленность. Но я ничего не знал о народе
Финляндии. Во время советско-финской войны 1939 года в советской печати
изображали финнов, как северных варваров, одержимых одним желанием
– захватом всего севера СССР. В первые же дни финского плена мне довелось
иметь дело с представителями финской интеллигенции, одетыми в солдатские
и офицерские мундиры. Они по отношению к пленным держались очень корректно.
В лагере Свят-Наволок я встретил русского врача-эмигранта и врача,
уроженца Франции, с детства жившего в Финляндии, и его невесту. Эти
люди произвели на меня очень хорошее впечатление. И вот в Геологической
Комиссии мне предстояло встретиться с финскими учеными, в основном
геологами. Утром мы с сержантом поднялись на 2-ой этаж, прошли мимо
шкафов, заполненных петрографическими, минералогическими и палеонтологическими
коллекциями. У меня глаза разбегались. Здесь была представлена не
только геология Финляндии, но и всего Скандинавского полуострова.
Геологические карты, вертикальные и горизонтальные разрезы, схемы,
топографические карты – все это было тщательно и даже художественно
обработано. Меня привели в кабинет директора Геологической Комиссии
профессора Лайтакари. Переступив порог этой комнаты, я увидел полтора
десятка сотрудников. Все они, словно по команде, встали, как и сам
профессор Лайтакари. Каждый из них подходил ко мне пожать руку, называл
свою фамилию, ученую степень и занимаемую должность в Геологической
Комиссии. Затем все сели и стали внимательно рассматривать меня. Надо
понять, одно дело – увидеть человека из СССР в мирное время, другое
– в военное, когда на фронте столкнулись силы СССР и Финляндии, когда
льется кровь и решаются судьбы народов. Вероятно, этим обстоятельством
объяснялось то любопытство, которое финны проявляли к пленному профессору.
Я был взволнован оказанным мне приемом. Я заметил, что большинство
геологов были одеты в военную форму, у некоторых на плечах были офицерские
погоны. Это меня смутило, но профессор Лайтакари тут же меня успокоил,
сказал, что все сотрудники являются военнообязанными, но никакого
отношения не имеют к военной профессии. Профессор Лайтакари попросил
меня сесть в кресло возле письменного стола и спросил меня, на каком
языке я предпочитаю говорить, нужен ли переводчик. Я ответил, что
хорошо владею немецким, хуже английским. Оказалось, что вся финская
интеллигенция прекрасно владеет двумя-тремя европейскими языками,
многие знают и русский язык. Лайтакари откровенно заявил, что все
сведения обо мне он получил от доктора Карла Мари и его невесты. Лайтакари
также заявил, что отныне я считаюсь интернированным и могу, пока идет
война, оставаться в Хельсинки, где мне будет предоставлена работа
в Геологической Комиссии, я могу свободно передвигаться по городу.
Сказав это, профессор улыбнулся и выразил надежду, что я не буду злоупотреблять
предоставленной мне свободой. Ни директор Геологической Комиссии,
ни его сотрудники не касались политических вопросов, интересовались
лишь моим геологическим опытом и педагогической деятельностью. Я рассказал,
что работал геологом на Ухте, в Печерском бассейне и на Воркуте. Профессор
очень оживился, он взял с меня слово, что я расскажу ему о геологии
Севера Европейской части СССР. Лайтакари еще раз подчеркнул: «Прошу
вас, профессор, не придавать значения нашим мундирам. Мы никогда не
работали в военном ведомстве, и война с Россией не оказала никакого
влияния ни на наше поведение, ни на сознание, мы верны только научной
правде.» Я и сам понимал. что имею дело не с ограниченными националистами,
а с настоящими учеными. Профессор и его сотрудники называли имена
российских геологов, геохимиков и геофизиков, с трудами которых они
были хорошо знакомы. Они с восторгом отзывались об А.Д. Архангельском,
В.А.Обручеве, А.П. Карпинском, В.И. Вернадском и А.Е. Ферсмане. Профессора
Лайтакари особенно интересовали работы Ферсмана об апатитах Кольского
полуострова. Профессор обещал познакомить и меня с геологией Финляндии,
особенно с гранитами, и просил подумать о возможности моей работы
в Геологической Комиссии до окончания войны. Я обещал обдумать это
предложение, хотя про себя сразу решил, что это исключено. Наша первая
беседа продолжалась более трех часов, сотрудники не проронили ни слова.
Когда беседа кончилась, заместитель Лайтакари, очень симпатичный человек,
(к сожалению, фамилию его забыл) высокий брюнет лет 30-35, в деликатной
форме пригласил меня отобедать в его семье. Он прибавил, что его жена
хочет со мной познакомиться, собственными глазами увидеть военнопленного
профессора из СССР. Профессор Лайтакари сказал, что и он с удовольствием
пригласил бы меня к себе домой, но, к сожалению, его жена после гриппа
лежит в больнице с воспалением легких. Профессор Лайтакари – человек
небольшого роста, седенький, исключительно выразительное лицо, темнокарие
глаза. мягкие манеры – производил впечатление истинно большого ученого,
увлеченного своим делом. Лайтакари – автор всемирно известных работ
по геологии Финляндии, особенно интересна его книга, посвященная шхерам
Скандинавии.
Профессор с группой своих сотрудников проводил меня до машины, принадлежавшей
его заместителю, который решил показать мне город Хельсинки. Больше
часа мы ездили по благоустроенным, хорошо озелененным улицам города,
останавливались у здания финского Сейма, возле университета и Политехнического
института, прокатились по красивой набережной Финского залива Уже
во второй половине дня мы подъехали к красивому двухэтажному особняку,
окруженному садом, красивая ограда с массивными металлическими воротами
бронзового цвета. Мы въехали во двор и остановились у парадного входа
с большим навесом. Это был собственный дом геолога, в нем жила еого
небольшая семья, а также родители его и жены. Поднялись по мраморной
лестнице, покрытой широкой красной дорожкой. На большой площадке второго
этажа нас встретили две женщины, одна из них порывисто бросилась ко
мне, обняла и расцеловала – это была моя знакомая – Эрна, невеста
врача Карла Мари. Другая женщина, высокая блондинка с голубыми глазами
– жена геолога, который возил меня по городу. Лицо у этой женщины
было необыкновенной белизны, а ее фигуре могла бы позавидовать сама
Венера. Высокая женщина с любопытством меня рассматривала, немного
прищурив глаза, затем улыбнулась, протянула мне руку и на довольно
хорошем русском языке с небольшим акцентом сказала: «Давайте знакомиться,
меня зовут Элеонорой, я двоюродная сестра Эрны». Эрна заметила, что
я не отрываю глаз от прекрасной Элеоноры, и решила меня разыграть.
Смеясь, она сказала: «Теперь вы, профессор, уже не скажете, что я
самая красивая женщина Финляндии». Это она вспомнила о моей записке
ее жениху Карлу Мари. Мне надо было быстро придумать подходщий ответ.
Я сказал: «В той записке было сказано, что вы самая красивая девушка
Финляндии, а не дама». Мой ответ понравился, все громко смеялись.
И мне передалось веселое настроение. я тоже захохотал. Я уже забыл,
когда я последний раз так смеялся. Хозяйка дома предложила мне принять
душ. Заметив мое смущение, она взяла меня под руку и отвела в ванную
комнату. От того, что я увидел там, можно сказать, оторопел. Огромная
ванна, многочисленные устройства, которыми я не знал, как пользоваться.
Кругом красивая кафельная плитка и сверкающий никель. Я, как маленький
ребенок, начал крутить разные ручки, проверял, что получится. Наполнил
ванну горячей водой и опустился в нее, почувствовал необыкновенное
блаженство. Меня не беспокоили, хозяева дома понимали, в каком я нахожусь
состоянии. Примерно через час в дверь постучали, кто-то подал мне
свежее белье, домашний костюм и тапочки. За мной ухаживали, как за
знатным гостем. Я понимал, что попал в дом людей состоятельных, для
которых вполне естественно предоставить гостю соответствующие условия.
Вспомнил 1919 год, Севастополь и мое пребывание в доме миллионера
Шпицглюза. Там меня, случайного гостя, приняли так же радушно. И все
же я ощущал смущение, никак не мог переварить, как это ко мне, военнопленному,
мало знакомые люди относятся с таким редкостным вниманием. Кроме того,
меня будоражили такие мысли: неужели вот эти люди, граждане Финляндии,
совершенно не принимают во внимание то, что я из страны, которая двинула
на Финляндию огромную армию и посылает самолеты бомбить их города,
где гибнут мирные граждане – старики, женщины и дети? Такое возможно,
но только в среде высококультурных и истинно интеллигентных людей.
Не буду описывать красивую сервировку стола, а о блюдах и винах скажу
лишь, что они не соответствовали военному времени. Все присутствующие
это хорошо понимали. Хозяин дома, заместитель профессора Лайтакари,
просил всех поднять бокалы с вином. Тихим, спокойным голосом он произнес
тост. Мне запомнились такие слова: «Нашу встречу с российским интеллигентом
я считаю символической. Будем надеяться, что в скором времени российские
и финские ученые встретятся за таким столом в мирной обстановке» Все
присутствующие зааплодировали. Эрна обратилась ко мне с просьбой,
чтобы я тоже что-нибудь сказал. Я встал, поднял свой бокал и произнес
такую речь: «Дорогие и милые друзья! Наша сегодняшняя встреча говорит
о том, что все перегородки между народами являются искусственными,
они созданы не народами, а правительствами, которые очень часто не
выражают интересы народов… Признаюсь вам откровенно, что в России
сложилось превратное представление о финском народе. Это является
результатом лживой информации. Я убежден, что скоро исчезнет взаимная
неприязнь между народами России и Финляндии, я глубоко верю, что это
произойдет… Почти целый год я нахожусь в плену. За этот небольшой
срок я понял. что ваш патриотизм ничего общего не имеет с ограниченным,
узким национализмом. Я видел, как доброжелательно финны относятся
к пленным, как добросовестно врачи лечат больных в концлагере. Но
пожалуй, наиболее показательно то, как финны относятся к евреям, к
народу, который в течение 2000 лет преследуется за то, что не принял
христианского учения, а имеет свое представление о законах исторического
развития… Поднимаю тост за прекрасную финскую интеллигенцию, за финских
ученых и их прелестных жен.» Мне тоже аплодировали, а еще и руку пожимали.
Оказалось, что Элеонора очень прилично знает русскую литературу, особенно
выделяла Пушкина. Специально для меня она прочитала несколько пушкинских
строк. Когда Элеонора кончила читать стихи, ее муж заметил: «Пушкин
был интернационалистом и свободолюбивым человеком.Такие люди тяжело
переносят произвол властей. Пушкин не смог бы жить в теперешней России.»
В связи с этим я заметил: «По сравнению с нашим веком, когда в Германии
свирепствует фашизм, а в Советском Союзе – сталинизм, период жизни
Пушкина представляется уже не жестоким, а вполне гуманным.» Эрна,
обратившись ко мне, добавила: «Мы кое-что знаем о том, что происходит
в России, знаем и о вашей личной трагедии.» Я был удивлен, выяснилось,
что мой приятель Геннадий Князев в Свят-Наволоке рассказал финнам
о моих злоключениях в СССР. Продолжать эту тему мне не хотелось, и
я предложил переключиться на музыку и пение. Финский народ музыкален,
я успел заметить, что многие финны часто тихо напевают какие-то мелодии.
В каждой финской деревне найдется свой скрипач, флейтист или кларнетист.
Отмечу, что во время войны в Финляндии не было слышно ни веселой музыки,
ни веселых песен. Элеонора откликнулась на мое предложение, подошла
к роялю и стала играть отрывки из произведений Баха, Чайковского,
Грига и финского композитора Сибелиуса. Затем к ней подошла Эрна и
под аккомпанемент очень приятным меццо-сопрано спела арию Сольвейг.
Мы почти до утра проговорили на различные темы. Эрна и Элеонора настоятельно
советовали мне поработать в Геологической Комиссии до окончания войны.
Что я мог им сказать? Я не стал объяснять, чем это может обернуться
для моей семьи в России, только сказал, что, учитывая мое «криминальное»
прошлое, (с точки зрения советской власти) мне нельзя оставаться в
Хельсинки, а следует вернуться в лагерь военнопленных. Только в 4
часа утра я вернулся в здание Геологической Комиссии, мне никого не
пришлось будить, в Финляндии входные двери не запирались. Заснуть
я не смог, все думал, что я скажу профессору Лайтакари. Как ему объяснить,
почему я не смогу остаться в Хельсинки, а должен вернуться в лагерь.
Да, Советский Союз – это не царская Россия. Когда Ленин эмигрировал
из России, его родственники не пострадали, полиция их не тревожила.
А мои близкие уже достаточно натерпелись из-за меня. Я твердо решил
вернуться в лагерь.
Профессор Лайтакари пригласил меня в свой кабинет, чтобы выяснить,
не смогу ли я сделать доклад о геологии Воркуто-Печерского бассейна.
Он убеждал меня, что эта тема интересна для финских геологов в чисто
теоретическом аспекте. Я пытался объяснить, что в моей стране об этом
докладе узнают и расценят его как сотрудничество с вражеской страной.
На это Лайтакари сказал: «Очень трудно понять, что происходит в вашей
стране, неужели научный доклад советского гражданина за рубежом считается
политическим преступлением? Мы ездим во многие страны Европы, принимаем
участие в различных международных экспедициях и конференциях. но не
отчитывемся перед нашими государственными чиновниками.» На это я ответил:
«Профессор, живущие в странах Западной Европы и США не представляют,
что за государство Советский Союз, так называемое социалистическое
государство. Надо пожить в «социалистическом рае», чтобы понять античеловеческий
характер советской системы.» Теперь расскажу об интересном разговоре
с одним работником Геологической Комиссии, сыном русских эмигрантов,
покинувшим Россию в 1918 году. Он учился в русской гимназии, сохранил
хороший русский язык, закончил химическое отделение Хельсинского Политехнического
института. В Геологической Комисси он специализировался по геохимии
и минералогии. Как-то геохимик спросил меня, не хотелось бы мне написать
мемуары, в которых показать широкую картину событий, происходивших
в России после свержения монархии. При этом он добавил, что издательство
гарантирует мне гонорар в сумме миллиона марок. Это предложение вначале
меня развеселило, но потом я перешел на серьезный тон. Вот, что я
сказал молодому человеку: «Мысль о воспоминаниях возникла у меня после
того, как я узнал о расстреле тысяч заключенных на Воркуте, объявивших
голодовку протеста. Среди них были и мои друзья, люди чистые, благородные,
самоотверженные, мужественные, духовно богатые. Мне очень хочется
написать об этих замечательных людях. Но со временем я понял, что
этого недостаточно. Вы правы, надо писать обо всем, что происходило
в России после свержения монархии и что происходит сегодня. Это огромная
работа. Для моих воспоминаний потребуется не менее 10 лет при благоприятных
обстоятельствах. Но начинать надо писать подобные воспоминания после
окончания Мировой войны, когда определится направление дальнейшего
развития многих стран мира.Тогда появится возможность проанализировать
исторические процессы, обусловившие торжество изуверских режимов гитлеризма
и сталинизма. Все воспоминания о событиях, сотрясавших мир в ХХ-ом
веке, должны помочь осмыслить очень многое и, может быть, прежде всего
катастрофические последствия любых политических культов и идолов.
Если дойдет дело до моих воспоминаний, то я напишу и о нескольких
годах перед Февральской революцией, и о Гражданской войне, и о невиданном
геноциде народа, о тюрьмах, концлагерях, этапах. Это огромный пласт
советской жизни, о котором мир не имеет почти никакого представления.
Одновременно я попытаюсь проанализировать процессы общественного,
политического и социального характера, происходившие в России-СССР
после октября 1917 года. Мое поколение является одновременно и объектом,
и субъектом процесса, происходящего в так называемом социалистическом
обществе. Я социализм изучал не только в библиотеках, а в большей
степени на своем горбу. Кому же, если не нашему поколению, писать
мемуары? Тем более, что я имел счастье, а может быть, и несчастье,
лично знать Ленина, Троцкого, Бухарина, Сталина, Ворошилова, Рыкова,
Томского и многих полководцев Красной армии, уничтоженных Сталиным.»
Русский эмигрант сказал мне, что многие сотрудники Геологической Комиссии
хотят, чтобы я побывал у них дома. На это я ответил: «Моя связь с
вами в СССР будет квалифицирована как измена родине… Я с удовольствием
ближе познакомился бы со всеми вами, но я должен думать не только
о себе, но и о судьбе моей семьи… Вот почему я вынужден отказаться
от ваших приглашений. Но в моем сознании и сердце навсегда сохранится
память о том приеме, который вы оказали мне, советскому военнопленному.»
Я отдавал отчет в том, что финнам очень трудно понять, что представляет
собой советское общество.
Наступила северная осень, небо затянулось свинцовыми тучами, с запада
подул холодный ветер, падал мокрый снег. Меня снова вызвал профессор
Лайтакари, я должен дать ему окончательный ответ: останусь ли я в
Хельсинки до окончания войны. Я снова сижу в кабинете профессора Лайтакари,
мы опять только вдвоем. Я окончательно сказал, что не могу остаться
в Хельсинки и еще раз объяснил, почему я вынужден отказаться от столь
лестного предложения. Профессор согласился с моими доводами. И тут
же он прибавил, что он примет все зависящие от него меры, чтобы никто
не смел надо мной издеваться в условиях плена. Профессор еще добавил,
что к Ленину, Троцкому и тем старым революционерам, благодаря которым
Финляндия получила независимость, финский народ относится с большим
уважением. На мой вопрос, как в Финляндии оценивают Сталина, Лайтакари,
улыбнувшись, ответил: «Человечество бы ничего не потеряло, если бы
на исторической арене было меньше таких фюреров, как ваш Сталин и
немецкий Гитлер.» После этой беседы я еще несколько дней оставался
в Хельсинки. Сержант водил меня по городу, знакомил с достопримечательностями.
Совсем рядом с Геологической Комиссией располагалось скромное здание
оперного театра Финляндии. Как-то сержант привел меня в ресторан,
где нас кормили картошкой в мундире, а затем подали кофе. В ресторане
сидели скромные люди, много пожилых и женщин с детьми. Обеды в ресторане
были дешевые, но вместо хлеба подавали галеты. Пока я оставался в
Хельсинки, геологи знакомили меня с многочисленными петрографическими
и минералогическими коллекциями, показывали журналы и геологические
карты, по которым можно было составить полное представление о геологии
и географии Финляндии. Спал я очень плохо, думал о том, что увидел
в плену, о продолжавшейся свирепой войне. По финским газетам можно
было составить представление о положении на фронтах. Интересно, что
финские журналисты не восторгались победами гитлеровских армий, не
пели дифирамбы своему главнокомандующему Маннергейму и президенту
Рютти. В демократической Финляндии вообще не принято было восхвалять
ту или иную политическую фигуру. Из финских газет я узнал, что немецкие
войска захватили Белоруссию и Украину, глубоко продвинулись в Россию.
Но я был убежден.что это успех временный, фашистская Германия будет
сокрушена совместными усилиями СССР, США, Англии и Франции. Я задавал
себе вопрос: каким образом Гитлер за 7-8 лет своего господства сумел
создать мощную военную промышленность, произвести десятки тысяч танков,
пушек и самолетов? Природные богатства Германии значительно уступали
природным богатствам СССР. Прошло почти 20 лет, как в СССР единолично
правит Сталин, сколько было шума об индустриализации и электрификации
страны. И в результате страна оказалась совершенно не готовой к большой
войне, повсеместно царила паника, миллионы солдат гибли и попадали
в плен, так как не могли ничего, кроме своих рук, ног да винтовки,
противопоставить мощной военной технике немцев. Политические режимы
Германии и Советского Союза были во многом похожи. Одна страна к началу
войны оказалась сильной, другая слабой с полностью обезглавленной
армией. Состояние СССР во многом определялось бездарным руководством
подлого и невежественного «великого кормчего», обладавшего неограниченной
властью.
Кратко остановлюсь на огромной разнице в атмосфере общества и поведении
людей в Финляндии и СССР. В финском плену мне приходилось сталкиваться
с представителями различных социальных слоев и групп: рабочими, солдатами,
офицерами, ремесленниками, интеллигентами. Все они вели себя просто,
естественно, доброжелательно и свободно. В своих оценках событий и
политических деятелей они не приспосабливались к официальной точке
зрения. Совсем иная обстановка сложилась в СССР. Советские граждане
за два десятилетия сталинской диктатуры приучены выражать свои мысли
с оглядкой на общепринятые догмы и формулировки, продиктованные правящей
партией. Все советское общество уже давно находилось в состоянии постоянного
страха, каждый человек в любое время мог попасть в лапы инквизиторов
НКВД. Когда собиралось где-либо 3 человека, то каждый из них боялся,
не донесут ли на него двое других.
В Финляндии я впервые столкнулся с жизнью свободных людей в демократическом
государстве. Для меня, родившегося и жившего вначале в царской Росси,
затем в большевистском СССР, эта жизнь оказалась совершенно неведомым
миром, где жизнь людей построена на основе личной свободы и равных
прав всех граждан.
С большой грустью я покидал Хельсинки, по очевидным причинам я отказался
от проводов. Меня в Петрозаводск увозил все тот же сержант, комендант
Геологической Комиссии. Я снова был водворен в лагерь для пленных,
но в Свят-Наволок меня уже не вернули.
Я пишу воспоминания спустя много лет после моих встреч в Хельсинки
с представителями финской интеллигенции. Я все хорошо помню, но те
дни представляются мне какой-то сказкой.
ЧАСТЬ Х11. ГЛАВА 5
Лагерь пленных в Петрозаводске. Начальник лагеря гневно осуждает доносчиков.
Организую в лагере школу для детей. Выступаю в финском суде в роли
официального защитника М.А. Мироновой. Дни перед приходом Красной
армии.
Я в Петрозаводске. Город расположен на берегу Онежского озера, через
него проходит Кировская железная дорога. Петрозаводск заложен Петром
1-м в 1703 году почти одновременно с Петербургом. Экономической базой
города явился металлургический завод, созданный по приказу Петра 1-го.Завод
работал на местном сырье: озерной руде и древесном угле. Петрозаводск
после Петербурга второе окно в Европу. Несмотря на близость столицы,
он до революции оставался небольшим провинциальным городком. В нем,
как и во всей Карелии, жизнь людей связана с лесом. Карелия по своим
ландшафтам напоминает Финляндию: те же гранитные скалы, стройные леса,
прекрасные многочисленные озера, много валунов и «бараньи лбы» – остатки
ледникового периода. Да и между народами, населяющими Финляндию и
Карелию, много общего. Был период, когда карелы и народ коми (зыряне)
пытались добиться присоединения к Финляндии, так как считали себя
финскими племенами. Мне приходилось встречаться с людьми, которые
считали, что Карелия должна быть включена в Великую Финляндию. Но
в Хельсинки, общаясь с интеллигенцией, я никогда не слышал, чтобы
говорили на эту тему. Меня поместили в лагерь,где находились военнопленные
и гражданские, интернированные со всей Карелии. Под лагерь отвели
большую территорию, где до прихода финнов проживали карелы и русские,
занимавшиеся различными промыслами, торговлей и сельским хозяйством.
Лагерь был окружен проволочным забором, но охраны было так мало, что
лагерники, особенно женщины, протискивались через проволоку, уходили
в город и только вечером возвращались. Из лагеря периодически водили
на различные работы: разборка кирпичей разрушенных домов, ремонт дорог,
обработка древесины. Металлургический завод не работал. В лагере не
было ни столовой, ни общественной кухни, на сутки выдавали паек: 3-4
галеты, мерзлая картошка, капуста и морковь. Это несравненно лучше,
чем в советских концлагерях. В лагере было много молодых девушек и
женщин, многие из которых быстро находили кавалеров среди финских
офицеров и солдат. Помню двух бывших комсомолок Валю Смирнову и Валю
Сытову, их случайная связь с финскими офицерами закончилась замужеством.
Надо сказать, что русские женщины высоко котировались в Финляндии.
Большое число русских и карелов остались в Петрозаводске, не пожелали
эвакуироваться. Многим из них была предоставлена работа. Я не слышал,
чтобы финны притесняли местное население. Иногда неожиданно откуда-то
появлялись небольшие группки фашистского толка, которые бесчинствовали,
но финская администрация быстро их выдворяла, а иногда даже полицейские
их просто били.
Я должен отдельно рассказать о начальнике нашего лагеря, который в
военное время выполнял свою сложную работу строго в рамках законов
демократического государства.
Начальником нашего лагеря был подполковник Левелахти. Это был старик
лет 70-ти. В царское время, когда Финляндия в статусе великого княжества
входила в состав России, Левелахти служил в русской кавалерии под
командованием Маннергейма. Главнокомандующий финской армией в войне
с СССР когда-то верой и правдой сужил русскому царю в качестве инспектора
кавалерии. Подполковник Левелахти потерял руку во время русско-японской
войны. И хотя у него был протез, он прекрасно управлял велосипедом.
Каждое утро он приезжал в концлагерь на своем велосипеде. Мы, лагерники,
никогда не слышали от него ни одного грубого слова. Этот высокий сухощавый
старик всегда был вежлив и постоянно говорил нам, что скоро закончится
война и мы вернемся к своим семьям. При этом его голубые глаза щурились
и все лицо покрывалось мелкими морщинками. Какой резкий контраст с
начальниками и всей администрацией советских концлагерей. Приведу
один пример, характеризующий не только личность Левелахти, но и в
целом Финляндию во время жестокой войны. Однажды подполковник приказал
построить всех лагерников, чтобы сделать какое-то заявление. Мы насторожились,
ждали каких-то перемен. Появился Левелахти, в руках он держал несколько
листочков. Он поднял вверх эти листочки и на ломаном русском языке
сказал: «Ко мне от нескольких военнопленных, находящихся среди вас,
поступил позорный донос. Мне доносят, что среди военнопленных есть
коммунисты, комсомольцы, комиссары и евреи, указаны фамилии. Заявляю
и хочу, чтобы вы поняли, что нас не интересует, кем вы были в России,
какой вы национальности, в какой партии состояли. В Финляндии существует
и охраняется законом свобода совести и убеждений. А евреи у нас пользуются
такими же правами, как и финны. Евреи служат в нашей армии, есть среди
них и офицеры. В советской России любят доносы и доносчиков, а в Финляндии
очень не любят. Это грязное, постыдное занятие. Прошу больше не заниматься
доносами, не писать таких подлых заявлений… Стыдно, аморально заниматься
такими делами.» Сказав это, подполковник в клочки изорвал список и
с презрением швырнул бумажки. Речь начальника лагеря всех нас поразила.
Лично я почувствовал какое-то нравственное облегчение, мне хотелось
крикнуть во все горло: «Да здравствует истинная свобода, долой доносчиков!»
Я имел право так прокричать, доносчики внесли немалый вклад в мои
многолетние жизненные злоключения, отнявшие лучшую часть моей жизни.
Что может быть подлее доноса? А в СССР доносчики в большом почете
у власти. Сталин всю свою подлую деятельность строил, опираясь на
огромную сеть доносчиков, лжесвидетелей, осведомителей. Эта сеть опутала
все слои общества. Человек, пишущий донос, содержащий чаще всего ложь,
утратил все нравственные нормы. Общество, в котором доносительство
становится нормой и всячески поощряется властью, полностью прогнило.
Удивительные явления происходят в истории России: сменяются социальные
формации, меняется власть и идеология, а доносчики и осведомители
не только остаются, а их армия постоянно растет, принимая огромные
масштабы. А вот в демократической Финляндии доносчики не в почете.
В Петрозаводске находился штаб всех находящихся в Карелии лагерей
для пленных. В данном случае «штаб» это громко сказано, он состоял
из начальника и нескольких снабженцев. Начальник нашего лагеря одновременно
был и начальником штаба всех лагерей. Каждый дагерник заносился в
учетную карточку на предмет получения лагерного пайка. Этих карточек
насчитывались тысячи, а заполнять их было некому. По этой причине
часто задерживалась выдача пайков, особенно новым лагернкам. Подполковник
Левелахти обратился к лагерникам, знающим латинский шрифт,чтобы они
помогли заполнять учетные карточки. В нашем лагере знающих латинский
шрифт оказалось всего 5 человек. В штабе работал еврей по имени Соломон,
выский, плечистый брюнет с длинным носом. Соломон с восторгом говорил,что
в Финляндии евреи полностью равноправны. А отдельные вылазки небольших
фашиствующих групп получают решительный отпор со стороны общественности,
особенно от социал-демократической партии. Думаю, что народ и правительство
Финляндии чрезвычайно высоко ценили завоевания в области демократии
и обладали большим мужеством, что позволило противостоять нажиму фашистской
Германии, требовавшей начать репрессии против евреев.
В штабе я познакомился с сыном русских эмигрантов Кириллом. Это был
человек небольшого роста, волосы светлые, как лен, глаза серые, нос
прямой, круглый подбородок. Он напомнил мне поэта Сергея Есенина.
Он вместе с родителями еще маленьким ребенком покинул Россию в 1920
году. Мы много беседовали с Кириллом. Он закончил гимназию, поступил
в Хельсинки в Политехнический институт. Кирилл очень хорошо говорил
о Финляндии, ему, сыну эмигрантов, ни в чем не чинили препятствий
ни в гимназии, ни в институте, он никогда не чувствовал недоброжелательного
отношения к нему. Когда в 1941 году Финляндия вступила во Вторую мировую
войну, Кирилл учился на третьем курсе института, его мобилизовали,
как и всех студентов. Но Кирилл категорически заявил военным властям,
что считает себя патриотом России и не может воевать против своей
родины. Атавизм? Может быть. Удивительно то, что его не подвергли
репрессиям как мобилизованного, отправили на хозяйственную работу.
Так он и оказался в штабе концлагерей. Услышав это, я подумал, а что
бы сделали с таким отказником в Советском Союзе в военное время? Могли
бы и расстрелять. Из бесед с Кириллом я понял, что его родители большие
патриоты России и в таком же духе воспитали своего сына. Все они жили
прежними, в основном дореволюционными представлениями о России. Кирилл
слышал кое-что о сталинской диктатуре, но совершенно не представлял,
какие масштабы и изуверские формы приняли репрессии против всех неугодных.
Он вообще ничего не знал о массовых расстрелах в концлагерях, в которых
в совершенно нечеловеческих условиях тяжко работали и умирали миллионы
людей. Я пытался кое-что объяснить, но человеку, проживающему в демократической
стране, понять происходившее в СССР трудно. Например, он говорил:
«Остервенелый грузинский деспот долго не удержится у власти.» Я пытался
его переубедить, говорил, что царь Николай П-ой и Сталин – это вполне
закономерные этапы на историческом пути России. Кирилл по своему складу
был человеком наивным, он верил в победу добра над злом. К тому же,
человеку, не жившему в большевистской России, очень трудно понять,
что там происходит.
В нашем лагере было много детей интернированных граждан. Они слонялись
по территории лагеря, никто ими не занимался. Часто они убегали из
лагеря в город, выпрашивали там пищу, ели сами и приносили в лагерь
своим родителям. Я обратился к начальнику лагеря с просьбой разрешить
мне организовать школу для детей. Левелахти улыбнулся и сказал: «Я
с большим удовольствием разрешаю создать школу, дети не должны страдать
из-за глупых правителей. Я помогу вам.» Под школу отвели небольшой
барак, Левелахти принес тетради и карандаши. В школу приходили девочки
и мальчики в возрасте 10-12 лет, все они занимались с большим интересом
и старанием. Мы занимались русским языком, литературой, математикой
и природоведением. Как-то Левелахти посетил школу, дети все встали.
Я заметил волнение на лице старого офицера. На следующий день солдат
принес в школу большущий пакет сухарей для моих школьников. Я получал
огромное удовольствие от этих занятий. Никогда в прошлом, преподавая
в ВУЗах, я не испытывал такого подъема. Мои ученики задавали много
вопросов, особенно их интересовало, когда кончится война и они смогут
вернуться в свои дома. Хотя я сам пессимистически смотрел на будущее,
я всячески старался поддержать в детях надежду на скорое изменение
их жизни к лучшему. Во время пасхальных дней Соломон принес в школу
мацу, а Кирилл – кулич с творогом и изюмом от своих родителей. Дети
были счастливы.
Я уже писал, что мне пришлось столкнуться с финскими фашистами. Однажды
небольшая группа пьяных молодчиков появилась в нашем лагере. Распевая
песни на немецком яыке, они забегали в бараки и кричали: «Где здесь
евреи, коммунисты и комиссары?» С одобрения администрации лагеря их
быстро усмирили, основательно побили и вышвырнули за ворота. Я не
переставал удивляться, учитывая, что Финляндия вела войну на стороне
фашистской Германии, которая в части окончательного решения еврейского
вопроса очень сильно давила на своих союзников.
Теперь о том, как я, военнопленный, оказался в роли защитника местных
жителей. Какие-то финские чиновники, настроенные против местного населения,
разъезжали по деревням и отбирали у селян коров, свиней и даже мелкую
живность, выгребали зерно из амбаров, не считаясь с положением той
или иной семьи. Как-то к забору нашего лагеря подошла молодая женщина,
назвала мою фамилию и попросила вызвать меня. Я пришел, эту женщину
увидел впервые, кто-то ей сказал, что я знаю финский и немецкий языки
и пишу для лагерников письма и различные прошения. Она рассказала,
что у ее многодетной матери финны увели корову, молоком которой питалось
семеро детей. Я попросил коменданта дать мне бумагу и ручку, написал
в сельскохозяйственное управление заявление, в котором протестовал
по поводу конфискации живности и зерна у граждан, оказавшихся на оккупированной
территории, привел пример, о котором рассказала пришедшая женщина.
Через два дня меня вызвали в сельскохозяйственное управление, куда
я явился в сопровождении конвоира. Сидевший за столом офицер спросил
меня, знаю ли я немецкий язык. Я тут же заговорил с ним по-немецки.
Офицер сразу написал распоряжение, чтобы вернули корову многодетной
матери. Вскоре молодая женщина,обратившаяся ко мне за помощью, пришла
в концлагерь, встала передо мной на колени и пыталась целовать ноги.
Это привело меня в замешательство, я поднял женщину и при этом чуть
не прослезился. Позже, когда я в очередной раз оказался перед советским
следователем, этот небольшой эпизод был использован им для фабрикации
обвинения. Следующее событие оказалось значительно серьезнее. В одном
из Петрозаводских лагерей находилась интернированная жительница Подпорожья
Мария Алексеевна Миронова с двумя детьми – 13-летней девочкой Валей
и 8-летним мальчиком Славиком. Миронова по профессии была поваром,
работала в столовой за пределами лагеря. Муж Мироновой, капитан Онежской
флотилии, погиб в советских концлагерях. Это мне рассказала Миронова.
Поздно вечером меня позвали к воротам лагеря. У ворот стояли дети
Мироновой, красивая девочка и мальчик с большими печальными глазами.
Девочка Валя рассказала мне, что их маму финны хотят посадить в тюрьму.
«Мама сказала нам, что в третьем лагере есть русский профессор. который
пишет заявления для советских людей. чтобы помочь им.» Я не мог понять,
откуда возник слух о моем «могуществе». Я спросил Валю Миронову, почему
собираются арестовать ее мать, какое преступление она совершила? Девочка
не могла толком объяснить суть обвинения. Я попросил ее, чтобы она
прислала ко мне маму. Лагерная администрация разрешила М.А. Мироновой
свидание со мной. Я увидел женщину среднего роста со смуглым лицом
и черными глазами. Я попросил ее подробно рассказать о своем деле.
Миронова сказала, что на нее написан донос советским гражданином Дубининым
и его дочерью. В доносе было сказано, что советская коммунистка Миронова
по лагерю распространяла листовки, сброшенные с советского самолета,
а также крала продукты с финской кухни. Мне стало ясно, что здесь
два обвинения: политическое и уголовное. Миронова откровенно призналась,
что она действительно нашла пачку листовок, сброшеных с самолета,
и раздавала их своим знакомым и родственникам. Что касается кражи
продуктов, то Миронова клялась, что продукты ей дал финский солдат,
работавший в каптерке больницы. Дубинины подстерегли ее, отобрали
продукты и отнесли их в военную комендатуру как вещественное доказательство
справедливости их доноса. Миронову вызвали в комендатуру, учинили
допрос, после чего передали дело в суд. На суде свидетелями будут
выступать те же Дубинины. Я поразмыслил и решил написать заявление
на имя главного прокурора Финляндии с просьбой разрешить мне выступить
в суде в качестве защитника. Я попросил начальника лагеря Левелахти
направить мое заявление по назначению. Левелахти спросил меня: «Вы
юрист?» Я ответил, что не юрист, но слушал лекции о праве и государстве
в Московском университете, а также знаком с финской конституцией.
Через 10 дней после подачи заявления было получено разрешение мне
выступить с защитой в Петрозаводском городском суде по делу Мироновой
М.А. Суд наметили на середину сентября, до суда оставалось две недели.
Я начал готовиться, продумывал свое выступление во всех деталях. Я
одновременно думал по-русски и по-немецки, так как не знал,на каком
языке придется выступать в суде. Всю свою будущую речь я выучил наизусть,
чтобы не пользоваться бумажками. И вот день суда, конвоир привел меня
в здание городского суда. Мне как защитнику предложили встать за маленькой
трибуной. Напротив меня сидел прокурор, небольшого роста, седой, с
приятным лицом, в чине капитана. Он внимательно меня рассматривал,
ему, вероятно, было странно видеть русского военнопленного в роли
защитника в финском суде. У стены сидели свидетели - Дубинин и его
дочь. Суд состоял из трех человек: судьи в военной форме и двух присяжных
заседателей. Судья зачитал дело Мироновой, затем прошел допрос обвиняемой
и свидетелей. После этого предоставили слово прокурору. Я сразу заметил,
что прокурор не стремился безоговорочно винить Миронову в ее «грехах»,
смотрел на молодую женщину сочувственно. Прокурор говорил не более
30 минут. Закончил он свою речь многозначительно, сказав: «Мне представляется,
что свидетели имеют какие-то личные счеты с обвиняемой.» При этом
прокурор посмотрел на меня и улыбнулся. Я подумал: вот это прокурор!
Судья произнес: « Предоставляется слово военнопленному, русскому профессору
Григорову Григорию Исаевичу, защитнику гражданки Мироновой Марии Алексеевны.
Я начал свое выступление с такого заявления: - «Всему миру известно,
что Финляндия, обретя самостоятельность после революции в России,
стала страной демократической, в которой уважается свобода слова и
патриотизм других стран и народов… Если моя подзащитная и проявила
интерес к листовке, сброшенной советским самолетом, то в этом факте
нельзя усматривать состава преступления, это лишь нормальное проявление
любознательности. Каждый человек естественно проявляет интерес к своей
родине, особенно в период ожесточенной войны.» Сославшись на конституцию
Финляндии, я развивал свою мысль следующим образом: «Мне не известен
такой пункт в финляндской конституции, который позволял бы карать
человека за проявление им патриотического чувства.» Когда я произнес
эту фразу, и председатель суда, и прокурор одобрительно закивали головой.
Это меня воодушевило и я продолжал: «Мне хорошо известно, что исторически
всякое государственное право вырастало из права нравственного. Но
если на этот процесс посмотреть с нравственной стороны, то мы обязаны
соответствующим образом оценить любой донос, особенно когда он касается
граждан одной страны… Рассматривая показания-доносы свидетелей, можно
расценивать их как нарушение элементарных нравственных основ. Всякий
доносчик преследует лишь узко-эгоистические интересы. Он всегда приспосабливается
к существующему режиму таким образом, чтобы что-нибудь выгадать для
себя. Поэтому следует отвергнуть показания сидящих здесь свидетелей
не только как недостаточно обоснованные, но и как безнравственные.
Ничего не могу сказать против мнения прокурора по этому делу, так
как оно было весьма объективным и не содержало обвинительных мотивов.»
Далее я кратко коснулся и обвинения Мироновой в хищении продуктов.
Я сказал следующее: «Из показаний обвиняемой можно установить, что
ниаких продуктов она не похищала, продукты ей дал финский солдат.
И обратите внимание, что когда Миронова была вызвана в комендатуру,
она отказалась назвать человека, который помогал ей и ее детям. Это
характеризует гражданку Миронову положительно с моральной стороны.»
После моей речи суд отправился на совещание, которое продолжалось
не более получаса. Суд вынес оправдательный приговор моей подзащитной.
Мария Алексеевна бросилась ко мне, охватила мою голову и начала целовать,
подошли прокурор и судья, пожали мне руку и поблагодарили за помощь
в разбирательстве дела Мироновой. Свидетели сжались, опустили головы
и быстро удалились. Этот процесс показал, что финские юристы не жаловали
доносчиков. Я вернулся в свой лагерь, чувствовал большую усталость.
Лежа на нарах, я мысленно сопоставлял прошедший процесс с тем, что
творит в СССР сталинская клика, сделав основным судебным органом Особое
Совещание при НКВД. Советские следователи, прокуроры и прочие «юристы»
во главе с Генеральным прокурором Вышинским вообще не интересовались
обстоятельствами дел обвиняемых, у них была одна общая задача - выполнить
указание ЦК партии и лично «великого кормчего и высшего судьи, который
никогда не мог ошибаться». Вышинский, стремясь всячески угодить кремлевскому
изуверу, специально придумал новый «юридический принцип презумпции
виновности». Во всех демократических государствах юристы опираются
на правовой принцип «презумпция невиновности», который никак не подходил
для сталинских палачей. По Вышинскому, надо любыми средствами принуждения
добиться от обвиняемого признания «его вины», состряпанной следователем.
Человека называют «врагом народа» и не суд, а сам обвиняемый должен
доказать, что он не такой. Абсурд! В средние века фанатики-инквизиторы
страшными пытками добивались от своих жертв признания «вины» и приговаривали
«признавшегося еретика» к сожжению на костре. А сам факт того, что
осужденный сгорел, инквизиторы считали доказательством его вины. Сталинские
опричники на современных кострах – в тюрьмах, концлагерях и местах,
отведенных для расстрелов – «сожгли» миллионы людей, которых даже
средневековые инквизиторы не смогли бы обвинить в «ереси». Репрессии
невиданных масштабов были следствием лишь того, что маньяк, сидевший
в Московском Кремле, и свора его приближенных считали, что только
постоянный страх всех граждан страны может обеспечить прочность их
власти. Великий французский просветитель Монтескье сказал: «Тот тип
государства наиболее приемлем, который в наивысшей степени обеспечивает
неприкосновенность закона от посягательств тирана». При сталинской
диктатуре не было никакого посягательства на закон, поскольку закона
просто не существовало, хотя шума вокруг «сталинской конституции»
было очень много. Но в СССР любая государственная бумага – это одно,
а жизнь – совсем другое. Финский народ отрицательно относился как
к немецкому фашизму, так и к советскому большевизму. Очень интересно,
что во многих официальных финских учреждениях на стенах висели портреты
Маркса и Энгельса, Ленина и Троцкого, которых финны считали социал-демократами.
Меня это удивляло, я пытался у образованных финнов выяснить, как они
воспринимают наследие Маркса и Энгельса, разделяют ли экономическую
и политическую области марксизма. Ответа я не получил, мне лишь объяснили,
что в Финляндии самая крупная политическая партия – социал-демократическая,
а все социал-демократы считают себя марксистами. Финские социал-демократы
считают, что сталинский режим в Советском Союзе не имеет ничего общего
с марксизмом, а очень близок к фашизму. Финны подчеркивали, что в
демократической Финляндии невозможен тиранический режим, финны никогда
не сотворят себе политического идола. Я при этом не высказывал своего
мнения, хотя в душе с ними соглашался.
Финская интеллигенция проявляла очень большой интерес к Петрозаводскому
университету, несмотря на то, что финны считали свое пребывание в
Петрозаводске времнным. Финская администрация университета не только
поддерживала порядок в кабинетах и лабораториях, но и очень бережно
относилась к книгам и материалам, особенно имевшим научное значение.
Более того, все книги и материалы тщательно разбирались и сортировались.
В конце 1942 года к нам в концлагерь явился финский офицер, он зашел
к нам в барак и разыскал меня. пожал мне руку, назвал свое имя – Матилла.
Это был человек среднего роста, белокурый, державшийся несколько застенчиво.
Манера его обращеня была для меня непривычно предупредительной. Матилла
сказал, что профессор Лайтакари из Геологической Комиссии рекомендовал
ему обратиться ко мне с просьбой оказать содействие библиотечной комиссии
в подборе литературы по геологии, хранившейся в Петрозаводском университете.
Матилла сказал,что если я соглашусь, меня освободят от всех других
работ и обязанностей. Предложение было неожиданным и для военнопленного
необычным, поэтому я попросил 2 дня на обдумывание. Посоветовался
с товарищами по плену. Они посоветовали мне согласиться на такое заманчивое
предложение. Я был очень рад тому, что в условиях плена получу возможность
читать книги на русском языке. Первое время меня водили в библиотеку
под конвоем, но вскоре постоянные сотрудники библиотеки добились,
чтобы я приходил в библиотеку без конвоира. Для меня оказалось большой
неожиданностью, когда я узнал, что в архивах университета хранятся
тысячи дел, заведенных на заключенных. находившихся в советское время
в тюрьмах и концлагерях на территории Карелии. Для разбора архивов
и огромного количества книг, сваленных в разных помещениях Петрозаводского
университета, из разных городов Финляндии прибыло много людей. Среди
них были библиотекари, финские ученые, архивариусы и даже русские
эмигранты, знакомые с русской литературой. Среди них было много культурных,
образованных, интересных людей. Я поближе познакомился с Виктором
Исаевичем, его фамилию забыл. Он давно эмигрировал из России вместе
с женой, русской княгиней. Виктор Исаевич почему-то выдавал себя за
шведа, но разговаривал на чистейшем, без акцента, прекрасном русском
языке. Он просто не хотел признаться, что после революции эмигрировал
из России. Этот весьма культурный и образованный человек с аристократическими
манерами проявлял большой интерес ко всему русскому: книгам, театру,
живописи. Виктор Исаевич был среднего роста с вытянутым лицом и седенькой
треугольной бородкой. Ему было поручено заведовать в библиотеке техническим
отделом. Он попросил меня помочь ему в отборе книг по физике, астрономии,
теоретической механике и химии. Виктор Исаевич ежедневно утром заходил
ко мне и заводил разговор на научные темы. Его интересовало, как в
Советском Союзе относятся к теории относительности, квантовой механике,
к опытам Резерфорда и планетарной модели атома Нильса Бора, он спрашиал,
почему советские ученые отрицательно относятся к кибернетике и генетике.
Виктор Исаевич знал о преследовании в СССР великого биолога Н.И. Вавилова
и не мог этого понять. Когда я сказал, что работал вместе с Н.И. Вавиловым
в Сельскохозяйственной Академии им. Ленина, Виктор Исаевич проникся
ко мне большим уважением. Он избегал политических тем, но однажды
с возущением рассказал, что сын художника И.Е. Репина, известный путешественник
Свен-Гедин и писатель К. Гамсун подписали откровенно фашистскую декларацию.
При этом он заявил: «Я вполне понимаю социал-демократов, когда они
отрицают советскую диктатуру… Но я уверен, что ни один финский социал-демократ
не подписал бы фашистской декларации, направленной против этой диктатуры.»
Виктор Исаевич считал Гитлера шизофреником и палачом, как и многие
русские эмигранты, желал скорейшего разгрома фашистской Германии.
И после этого, говорил он, советские генералы свергнут Сталина, по
его выражению, «Чингис-хана ХХ-го века». Слушая этого эмигранта, я
поражался его наивности, вероятно, он выражл мнение какой-то части
русской эмиграции. Если это так, то надо сказать, что эмигранты полностью
оторвались от действительности, не имели никакого представления о
положении, которое сложилось в СССР в эпоху так называемой «диктатуры
пролетариата». Как видно, они не понимали, что Сталин, уничтожив все
оппозиции, полностью закрепостив рабочих и крестьян и создав громаднейший
аппарат подавления всякого инакомыслия, обеспечил себе и своре приближенных
спокойную жизнь на многие годы. А поддержка во время войны сталинского
руководства Рузвельтом и Черчиллем создает авторитет Советскому Союзу
на международной арене. Английский премьер-министр значительно лучше
других понимал, что представляет собой СССР при сталинской диктатуре,
но все же пошел на союз с СССР ради сокрушения фашистской Германии,
считая последнюю самым опасным врагом Европы.
По моей работе мне приходилось иметь дело с финским офицером Матиллой,
очень гуманным и добродушным человеком. До войны он работал в библиотечном
управлении, был большим библиофилом, интерес к книгам у него превалировал
над всем остальным. Когда он держал в руках хорошую книгу, лицо его
сияло, глаза блестели, он поглаживал книгу, словно это была головка
ребенка. Я удивился, когда узнал, что Матилла интересуется сочинениями
Ленина. Эти сочинения упаковывались в ящики, грузились в вагоны и
рассылались по многочисленным финским библиотекам. Матилла старался
познакомить меня с общественным мнением относительно сложившегося
положения. Он говорил, что в Хельсинки и других крупных городах почти
все слои общества недовольны союзом Финляндии с фашистской Германией.
В клубах, ресторанах и на улицах открыто критикуют Маннергейма и Рютти,
финны считают Сталина виновником этого вынужденного союза Финляндии
с Германией, если бы не было войны СССР с Финляндией в 1939-1940 годах,
то финны не пошли бы на союз с Германией.
В Петрозаводском университете произошел пожар, сгорело много ниг и
документов. Одни считали, что пожар начался из-за неосторожного обращения
с железной печкой, которую, якобы, не потушили служащие перед уходом
с работы, другие полагали, что пожар – дело рук русских партизан.
Работавших в бибиотеке вызывали в полицию и допрашивали, но виновников
так и не нашли. Я подумал: если бы такой пожар произошел в СССР, то
уж обязательно нашли бы «диверсантов». Во время пожара мы перетаскивали
тысяси папок, это были «дела» заключенных, оставленные органами НКВД
в архивах университета при паническои отступлении частей Красной армии
в начале войны. Спасая от огня книги, мы сваливали их в подвалы университетского
здания, потом мы долго их разбирали. Тогда я обнаружил книгу Гитлера
«Майн Кампф» на немецком языке и прочитал ее. Омерзительное впечатление
осталось у меня от разглагольствований немецкого фюрера. Антисемитизм
обрел в Германии благодатную почву давно, задолго до Гитлера. Еще
Генрих Гейне писал, что антисемитизм в Германии, а я думаю, и в других
государствах тоже, объясняется тем, что «крылатый гений Израиля» оставляет
далеко позади самодовольных немецких (и всех других) буржуа. Гитлер
в своей книжонке пытается внедрить в сознание обывателя, что «неполноценные
евреи» обманом и финансовым прессингом стремятся достигнуть мирового
господства, тогда как благородные немцы, представители «высшей арийской
расы», заложившей основы мировой цивилизации, оказываются зависимыми
от евреев. Все беды в мире от евреев. Отсюда вывод – физически уничтожить
конкурентов, а заодно и очистить немецкий народ от «неполноценных».
Эта патологическая ненависть к евреям отбрасывает общество к эпохе
варварства, несмотря на научно-технический прогресс.
Пришло известие об измене генерала Власова и еще нескольких генералов,
перешедших с целой армией на сторону немцев. Власов,один из наиболее
приближенных к Сталину военных, заменивших военачальников, расстрелянных
в 1937-1938 годах. В лагере начались споры относительно Власова, немало
было тех, кто оправдывал Власова и считал его будущим освободителем
России. Более того, среди военопленных нашлись желающие вступить в
«освободительную» армию Власова, они подавали заявления с просьбой
отправить их в Германию. Среди «патриотов» были и бывшие коммунисты.
Военная администрация Финляндии удовлетворяла их просьбы, но явно
без энтузиазма. Скромный Матилла, поднимая плечи, говорил: «Вот вам
ваши коммунисты, сегодня они до хрипоты кричат «ура» Сталину, а завтра,
подняв правую руку, будут горланить «хайль Гитлер». Действительно,
сталинские и гитлеровские опричники принадлежат к одной и той же социальной
группе – мелкобуржуазному мещанству. Любой тиран плодит этих мерзавцев,
абсолютно беспринципных людей, преклоняющихся лишь перед силой. Но
у молодчиков, подавших заявление о вступлении в «РОА» генерала Власова,
не было интуиции, они не предвидели неизбежного краха фашистской Геомании.
Из Хельсинки в Петрозаводский университет прибыл русский эмигрант
с откровенно фашистской идеологией. Он часами рылся в документах,
присматривался к пленным, работавшим в библиотеке университета. Он
все время молчал, зрачки его глаз непрерывно двигались, а правой рукой
он поглаживал свои пухлые щеки. Этот человек представился нам как
архивариус, интересовался он только архивами России, особенно делами
заключенных. Ему в руки попала книга «Ученые Ленинграда». В этой книге
«архивариус» нашел и мою фамилию, там было написано: «Григоров Григорий
Исаевич – профессор и заведующий кафедрой философии в Учебном Комбинате
им. Молотова, в Сельскохозяйственной Академии им. Ленина и Педагогическом
институте им. Герцена.» После этой находки «архивариус» учинил мне
допрос, после которого я понял, что он не столько интересуется архивами,
сколько биографиями пленных, работавших в библиотеке университета.
Я не отрицал, что до декабря 1934 года был профессором философии,
затем был в тюрьме и концлагерях, после чего расстался с философией
и переключился на географию и геологию, после освобождения из заключения
преподавал в школе. «Архивариус» предложил мне написать статью в одну
из финских газет о репрессиях в Советском Союзе. Я отказался под предлогом
того, что давно порвал с политикой, занимался чистой наукой. Матилла
сообщил мне: «Архивариус» собирает сведения о вашей персоне, его надо
остерегаться… Пока мы вынуждены терпеть таких типов, но после войны
им не будет места в нашем обществе.»
Среди книг, сваленных в подвалах во время пожара, я обнаружил замечательную
библиотеку по лимнологии. За много лет был собран ценнейший материал
о многочисленных озерах Карелии. Я решил спрятать эту библиотеку.
Если бы финны узнали о ней, то безусловно вывезли бы ее в Финляндию.
Когда Петрозаводск был освобожден, эту библиотеку я передал наркому
образования Карелии.
Как только Красная армия перешла в наступление по всем фронтам, стало
ясно, что финны скоро уйдут из Карелии. Советские граждане, военнопленные
и интернированные оказались перед серьезнейшей проблемой – что делать,
возвращаться ли на родину или переехать в Финляндию в качестве эмигрантов?
Каждому из нас предоставлялась возможность остаться в Финляндии, нам
гарантировали работу по специальности и хорошие жилищные условия.
Мне сказали, что я смогу работать в Хельсинском университете, читать
лекции на русском языке. Соблазняли и тем, что каждый, кому не понравится
жизнь в Финляндии, сможет свободно уехать в любую страну. Большая
часть пленных решила не возвращаться на родину, опасаясь репрессий.
Никто из них не чувствовал вины перед родиной, но они понимали, что
для НКВД это не имеет никакого значения. Самый факт их пребывания
в плену и оккупации – достаточное основание, чтобы их обвинили в измене
родины. Такой редкостной глупости не допускали даже при царизме, тогда
пленных после окончания войны встречали без недоверия и каких-либо
предубеждений, не говоря уж об открытой злобе и преследовании. А наш
всесоюзный староста, полурабочий, полукрестьянин, под диктовку Сталина
и «юриста» Вышинского подписал омерзительный, бесчеловечный указ,
по которому любой пленный считался изменником родины. Более того,
«патриоты» считали, что каждый попавший в плен обязан покончить жизнь
самоубийством. Никогда в прошлой истории войн не издавалось подобных
указов. До этого могли додуматься только сталинские холуи. Этот указ
и привел к тому, что большая часть пленных не пожелала возвращаться
в СССР. Я же не мог себе этого позволить, поскольку тогда сразу же
последовали бы репрессии против моей семьи.
Однажды, когда мы заканчивали работу, ко мне подошел Матилла и сказал,
что, вероятно, скоро финны уйдут из Петрозаводска и ему придется с
нами расстаться. Перед этим он хотел бы узнать отношение пленных к
нему лично. Человек 30 собралось в небольшой комнате университета,
финский офицер Матилла обратился к нам на русском языке: «Сделал ли
я какое-нибудь зло русским пленным за время нашей совместной работы?»
Все, как один, ответили: «Нет, вы не только не причинили никому неприятности,
но мы не слышали от вас ни одного грубого слова, мы всегда чувствовали
в вас поддержку, что очень важно в нашем положении. Мы вас никогда
не забудем.» Я, действительно, не встречал столь доброжелательного
человеа.
В мае 1944 года финны начали выводить свои военные части из Петрозаводска,
в нашем лагере убрали даже ту небольшую охрану, которая была до этого.
Собралась группа из 10 человек, мы решили покинуть лагерь, вышли на
окраину города и натолкнулись на минное поле. Один товарищ был тяжело
ранен, его подхватили, и мы все направились к лесу. Наскочили на финский
патруль, который отвел нас на место, огражденное проволочным забором,
где собирали тех, кто хотел вернуться в СССР. Собралось человек 300,
мы разместились в бараках, нам выдавали пищу, но охраны не было. Прошло
несколько дней, я решил посмотреть, что происходит за забором. Было
раннее утро, небо голубое, тишина. Как видно, финны уже покинули город,
я вернулся и сообщил об этом товарищам. Решили группами расходиться.
Наша группа из 6 человек направилась к железной дороге, вскоре увидели
небольшой домик, мы залегли и стали наблюдать. Из домика вышел светловолосый
мальчик лет 10-ти в белой рубашке. Я позвал его, он испугался и быстро
вернулся во дворик домика. Мы вошли во дворик, увидели спящих на траве
старушку и молодую женщину, рядом сидел мальчик. Женщины встали, узнав,
что мы русские военнопленные, очень обрадовались, пригласили нас в
дом, угостили хлебом и колбасой. Мы отдохнули и направились в город.
Город был пуст, пустовали и многие дома, мы подыскали себе временную
квартиру. Финны оставили в городе много продовольствия на складах,
так что с питанием проблем не было. Как-то увидели, что народ бежит
в сторону Онежского озера. Мы тоже направились туда. Увидели, что
к берегу приближается Онежская военная флотилия. Корабли подошли к
причалу. Народ ринулся на корабли, крики, слезы, объятия. Тут я увидел,
что командир одного корабля держит на руках и целует того беленького
мальчика, которого мы встретили возле домика у железной дороги. Прибежала
и жена командира, а затем подошла и старушка. По лицам текли слезы
радости. Через 2-3 дня в Петрозаводск вошли части Карельского и Ленинградского
фронтов. Усталые, грязные, в потрепанной одежде солдаты располагались
на траве, что-то ели. Сразу же всем освобожденным пленным предписали
встать на военный учет в открывшихся военкоматах. Когда я находился
в военкомате, ко мне подошел военный, назвавшийся корреспондентом
газеты «Правда». Он расспросил меня об условиях пребывания в финском
плену, а затем попросил выступить на городском митинге от имени военнопленных.
Народу на митинг собралось много, я выступил и проговорил почти час.
Моя речь сводилась к неизбежности разгрома фашистской Германии и ее
сателлитов, остановился и на сути фашизма. Когда кончил, корреспондент
пожал мне руку, поблагодарил за содержательное выступление. Сделал
комплимент, назвав меня «прекрасным оратором старого стиля». На митинге
присутствовал нарком просвещения Карело-финской республики. Он прибыл
в Петрозаводск с Онежской флотилией. Он с краткой речью обратился
к присутствующим и выразил надежду на скорое окончание войны. Нарком
был человеком огромного роста, широкоплечий, с одутловатым лицом,
покрытым тонкими морщинками. После окончания митинга нарком подошел
ко мне, пожал руку и спросил, не соглашусь ли я выступить с докладом
на собрании учителей. При этом он подчеркнул, что в моем докладе я
должен буду охарактеризовать финских оккупантов и поведение советских
граждан, находившихся в оккупации. Подумав над этим предложением,
я ответил: «Я согласен сделать такой доклад, но я не могу говорить
плохое о финском народе. Нельзя переносить на народ недостатки его
правительства, финский народ не хотел воевать с нами и не стремился
к присоединению Карелии к Финляндиии…» Нарком улыбнулся, глаза его
прищурились и он сказал, что целиком согласен с такой постановкой
вопроса, а потом прибавил: «Мы, карелы, как-раз хотим объективности,
а не пристрастности в оценке нашего соседа.» Через два дня после этого
разговора я высупил с докладом перед петрозаводской интеллигенцией.
Зал был переполнен, лица у всех были измученные, меня они рассматривали
с явным любопытством. Мой доклад продолжался примерно полтора часа,
по окончании раздались громкие аплодисменты. Ко мне на подмостки поднялась
молодая девушка и спросила: «Профессор, что написано на плакате, вывешенным
финнами на стене этого зала?» На плакате по-латыни было написано:
Menen Sana in corpora Sana. Я перевел: «В здоровом теле здоровый дух.»
Девушка рассмеялась и сказала: «Финны правы, пусть этот лозунг останется
висеть.» После доклада нарком попросил меня помочь в восстановлении
Петрозаводского университета и Государственного республиканского музея.
Я сказал, что мне хотелось бы поскорее увидеть мою семью, так как
за время моего плена я не получил от них ни одного письма. Тут в разговор
вмешался человек в военной форме, который сказал: «В ближайшие два
месяца никому из бывших пленных не будут выдаваться документы, требуется
специальная проверка всех, кто находился в плену.» Мне все стало ясно.
Я дал согласие наркому принять участие в восстановлении университета
и Государственного музея. Приказом наркома меня назначили директором
музея и при музее выделили квартиру. Нарком сказал, что я могу вызвать
в Петрозаводск свою семью. Прежде всего вместе с профессором геологии
я извлек из подвала спрятанную мною библиотеку по лимнологии. Специалисты
были очень рады, что эти материалы сохранились, по их словам, библиотека
по лимнологии имела огромную научную ценность не только для Карелии,
но и для изучения всего Севера Советского Союза. Я написал несколько
писем семье и только через много лет узнал, что ни одно письмо не
дошло до адресата, все они попадали в органы контрразведки. Я взялся
за восстановление музея, пришлось разыскивать древние иконы, украденные
из музея. Были очень ценные иконы из Соловецкого монастыря и других
монастырей Севера. В работе по восстановлению музея мне помогала большая
группа учителей и школьников старших классов. Много времени я уделял
и работе на геологической кафедре университета, там работало несколько
человек, которые знали крупнейших ученых-геологов Тихановича и Стрижева.
Я им рассказал, что вместе с этими учеными я находился в Воркуто-Печерских
концлагерях. Надо сказать, что работал я и в музее, и в университете
с большим увлечением. Но этот период интересной работы оказался очень
коротким. Война шла к концу. Было совершенно очевидно, что германский
фашизм будет повержен, а сталинизм – фашистский режим под маской социализма
– после победы над Германией укрепится. Поэтому у меня не было никаких
иллюзий относительно моего будущего.